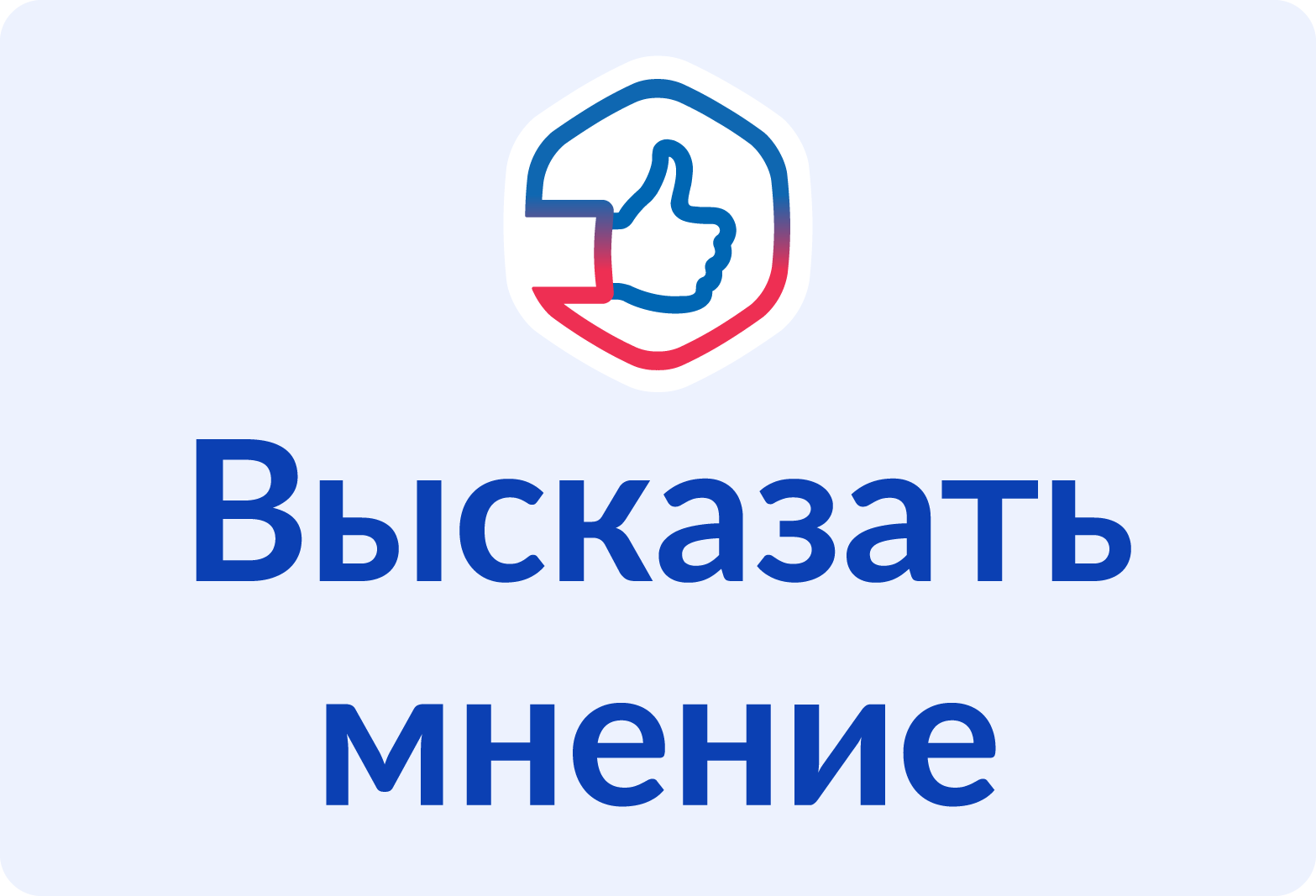История одного разведчика
Воспоминания о военных буднях Наума Гершеновича
Наум Ефимович Гершенович готовится к поездке в Москву. Ветеран из Шелехова в этом году в колонне парада Победы пройдет по Красной площади. Вниманием журналистов Наум Ефимович не обделен, но питает к ним стойкую опаску. Уж больно любят они присочинять, такого иной раз нагородят.
Одна умудрилась написать, что брал Берлин. А он там вовсе не был. Для него война с немцами закончилась в Кенигсберге.
До Берлина дошел его старший брат Яша. Негодный к строевой, он служил в железнодорожных войсках. После войны его часть перебросили в Западную Белоруссию, где отсиживались в лесах бывшие полицаи. От их пули и погиб. Остались от него две медали, одна из них – «За взятие Берлина».
Наум Ефимович согласился встретиться, прежде взяв с меня слово, что я ничего привирать не буду. Надеюсь, что выполнил его условие.
Генеральский подарок
Осенью 44-го стояли мы в Восточной Пруссии под городом Пилька́ллен. Городишко вроде небольшой, а как началось наступление, то помучились изрядно, четыре раза из рук в руки переходил, пока окончательно немцев из него не вышибли.
Но это позже случится, а тогда было затишье, но какое-то тревожное. Как стрельба стихнет, слышно: у немцев моторы день и ночь гудят. Что замышляет фашист? Или бежать собрался, или к наступлению готовится. Мы, разведчики, пузом ходим, несем потери, и все зря, не можем взять «языка», уж больно плотная оборона у немцев. И у соседей слева и справа та же ситуация: гудит, а к чему гудит – неизвестно.
Приезжает к нам в разведроту командир нашей 215-й стрелковой дивизии, Герой Советского Союза генерал Казарян. Очень мы его уважали. Как говорится, строг, но справедлив. Помню, объявился у нас начальником дивизионной разведки какой-то хлюст. Мигом себе бабенку завел, и как только мы на задание идем, он нам безо всякого смущения наказывает: «Вы там барахлишка для мой половины прихватите», – будто мы не в тыл к немцам, а в универмаг собрались. А то начинает кочевряжиться, когда после удачного рейда наш капитан со списком награжденных идет к нему: «Почему меня не включили? Не подпишу». Капитан аж зеленел от такой наглости, а куда денешься – начальство. Дошло это до комдива, и в тот же день вышиб его из дивизии.
Так вот, построил нас генерал и отдает приказ: три дня немца не тревожить, но глаз с него не спускать, всю его оборону изучить до самой тонкости. Днем мы биноклями каждый бугорок ощупываем, ночью нейтралку утюжим, минные поля засекаем. Искали брешь – и нашли. На четвертый день с утра устроили разведку боем. И вроде удачно, взяли в плен с десяток человек. Были среди них и старые вояки, рвавшиеся еще к Москве, и свеженькое пополнение из Франции, и семнадцатилетние мальчишки-сопляки… Показания они давали охотно, да проку от них было мало. Не складывалась картина. Нужен был офицер в хорошем звании.
Делать нечего, надо снова прорваться в немецкую траншею. Так случилось, что еще при первой вылазке и в первом взводе, и во втором, где я служил, командиров ранило. Командование первым взял на себя сержант Коля Колесников, а вторым – я. На этот раз нам повезло больше: попался жирный карась – командир батальона. А при нем документы и карта, на которой вся немецкая оборона, как на блюдечке.
Генерал был доволен: всех разведчиков, участвующих в захвате, представил к Красной Звезде, а нам с Колей сверх того дал отпуск домой. Но с условием: в отпуск отпустит, когда придут с пополнением командиры взводов.
Ладно, ждем. Через неделю присылают младшего лейтенанта. Но одного. Как его делить? Кто-то посоветовал: бросайте жребий. Сняли шапку, кинули туда две бумажки: одна пустая, а на другой написано «отпуск». Коля говорит: «Ну, ты, Наум, постарше, тяни». – «Нет, – говорю. – Мне вечно не везет, тяни уж ты». Коля потянул и, черт бы его подрал, вытянул отпуск. Уехал и как сгинул, уж все назначенные сроки прошли, а его все нет. Наконец, заявляется. Болезнь, жалуется, скрутила, и в подтверждение справку показывает. Мы-то, конечно, понимаем, что справка туфта, в сырых траншеях ничего не приставало, а тут занемог. Да кто упрекнет. Любой на хитрость пойдет, чтобы подольше дома побыть.
Дождался и я заветного часа. Из штаба звонят: «Собирайся, завтра машина пойдет в Вильнюс, там тебе оформят документы, и валяй домой». Ночь не спал, все мечтал, как приеду домой, маму обниму, сестренку. Ведь с 1940 года, как пошел на срочную, не видел их, считай, четыре с лишним годочка. А наутро вызывают к майору Михайлову, командиру полка. Он в землянке сидит, обложенный бумагами. Кивает, мол, садись. Помолчал и говорит: «Ничем тебя, брат, порадовать не могу, получен приказ – переходим в наступление». И добавил успокаивающе: «Но от имени генерала обещаю: встанем прочно в оборону – сразу же поедешь».
И сказала мама: «Иди, сынок, добивай супостатов»
Только прочно встать уже не получилось. Начали мы медленно, но упорно выдавливать немца из Восточной Пруссии. В апреле подступили к Кенигсбергу. Это не город – крепость. По стенам наша артиллерия крупного калибра лупит, а снаряды их не берут, как орехи отскакивают. Много народу под этими стенами полегло, ох, как много.
Отдышались мы немного, и тут начали нашу дивизию в первых числах мая грузить в эшелоны. Куда – военная тайна. Ладно, едем. Вижу – движемся на восток. Ага, япошек бить. Не зря же Сталин обещал американцам помочь разделаться с Квантунской армией. Как проехали Новосибирск, тут уж и сомнений не осталось. Я и загорелся: ведь мимо родных мест будем проезжать, хоть бы одним глазком глянуть на родных. Неизвестно, когда свидимся, да и свидимся ли…
Иду к нашему командиру роты, напоминаю: отпуск я ведь так и не использовал, а тут такая оказия. Тот: «Да я не против, только что начальство скажет?» Пошли с ним в штабной вагон, вызвали генеральского адъютанта, который сильно благоволил к разведчикам: «Проведи к бате». – «А ты к нему по какому делу?» – спрашивает. Ну, я ему все объяснил. Генеральский адъютант отвечает: «Подожди, сейчас патефон крутит, песни свои армянские слушает. Как кончит, так я тебя к нему и проведу. У него после песен настроение поднимается». Ну, мне это, конечно, только на руку. «Товарищ генерал, – говорю, – вы не забыли своего обещания дать мне отпуск?» Он мне в ответ: «Я, сержант, от своих слов никогда не отрекаюсь, прибудем на место – будет тебе отпуск». Я недоумеваю: Да зачем на место, когда до дома, можно сказать, рукой подать». Он подумал, подумал: «Ладно, сержант, уговорил».
Едва дождался я своей станции Куинга, откуда идет ветка на Сретенск. Пересел на пригородный поезд «Ученик», как его тогда кликали, и в шесть утра уже тарабанил в дверь. Сестра Оля спрашивает: «Кто там?» – «Открывай, – говорю, – брат твой, Наум». Она не верит: «Какой Наум?» Мать проснулась, услышала мой голос, кричит: «Да отпирай же, отпирай!» Плачет, гладит по голове: «Сыночек, сыночек…»
Бедная мама, сколько ей в жизни досталось всего. Ей пять лет было, когда их семейство выселили из-под Витебска и загнали в Забайкалье в какую-то глухомань. Только вышла замуж, как мужа забрали на первую мировую. Вернулся отец весь израненный. Детей наплодил и помер, маме одной пришлось тащить весь воз. Сначала жили своим хозяйством, а как пошли колхозы, там пропадала от зари до зари, потом война… Еще неизвестно, где тяжелее было: в тылу или на фронте. Моя жена все рвалась на фронт, ей сказали: пусть мужчины воюют, а вы за них трудитесь. Направили в шахту и вручили лопату, уголек в вагонетки кидать. Не каждому мужику это по силам, а что уж говорить о девчонке в неполных восемнадцать лет. Столько болячек нажила, что потом всю жизнь мучилась.
Попили чайку, поговорили, пошел я в военкомат отметку в документах делать. Военком, тоже из фронтовиков, принял радушно, стал расспрашивать, что да как, чем думаю заняться в отпуске. «Да мне бы, – говорю, – успеть дровишек заготовить да дом подлатать, он без мужской руки совсем обветшал». Военком дал мне совет, как отпуск подойдет к концу, прийти к нему, тогда он мне еще несколько дней добавит. И точно, свое слово сдержал. Так что я все задуманное успел сделать. Мог бы и еще пожить, начальник госпиталя, где сестренка медсестрой работала, пообещал ей справку выписать. Но мама, как узнала, заволновалась: «Поезжай, сынок, поезжай добивать супостатов. А то еще за дезертира примут».
Московская отметина
Ну, война с Японией, как вы знаете, недолгая была. У нас в разведке вызвали добровольцев, сформировали группу из пяти человек, меня старшим назначили, и как сделали войска прорыв, группа проскользнула в глубокий тыл к японцам. Нашли удобное место на перекрестке дорог, откуда все отступающие колонны были как на ладони, и докладывали по рации обо всех передвижениях. Фронт подойдет – мы поглубже в тыл заходим. Так и шли до самого города Мурино, освобождать который было поручено нашей дивизии.
В 1946 году я демобилизовался, уехал работать в леспромхоз под Петровск-Забайкальский. Проходит два года – звонит директор: «Поезжай в Читу, тебя чего-то облвоенкомат требует». Приезжаю. Вручают мне орден Красного Знамени. Это вам, говорят, за Японию.
А свой последний, девятый орден – орден Александра Невского – я два года назад получил. Честно говоря, и не знаю, за что. Наверное, по совокупности. Теперь вот все свои награды чищу, к параду на Красной площади готовлюсь. Двоих нас от области туда отрядили. Вот хожу по больницам, уколы всякие да процедуры принимаю, чтобы, значит, бодрости для столицы набраться.
В Москве-то я первый раз в ноябре 1941-го побывал, да прошла она тогда передо мной, как в тумане. Наш стрелковый полк, переброшенный спешным порядком с Дальнего Востока, немец весь перемолол под Подольском. Мне еще повезло, только на пятый день зацепило осколком. Но осколок – ерунда, рана быстро зажила. Хуже контузия. Так швырнуло об землю, что напрочь оглох и почти ослеп. Помню, что везли в санитарном автобусе через Москву, а где, как – ничего в памяти не осталось. Четыре месяца в казанском госпитале очухивался, да так до конца и не оправился.
Тут как-то иду по улице, чувствую, опять голова кругом пошла, аж зашатало всего. Хорошо, рядом скамейка оказалась, присел рядом с какой-то старушкой. Сердобольная оказалась: «Что, говорит, к бутылочке приложился?» Верно, думаю, бабка, приложился, только не к бутылочке, а к земле-матушке, крепко политой нашей солдатской кровью.