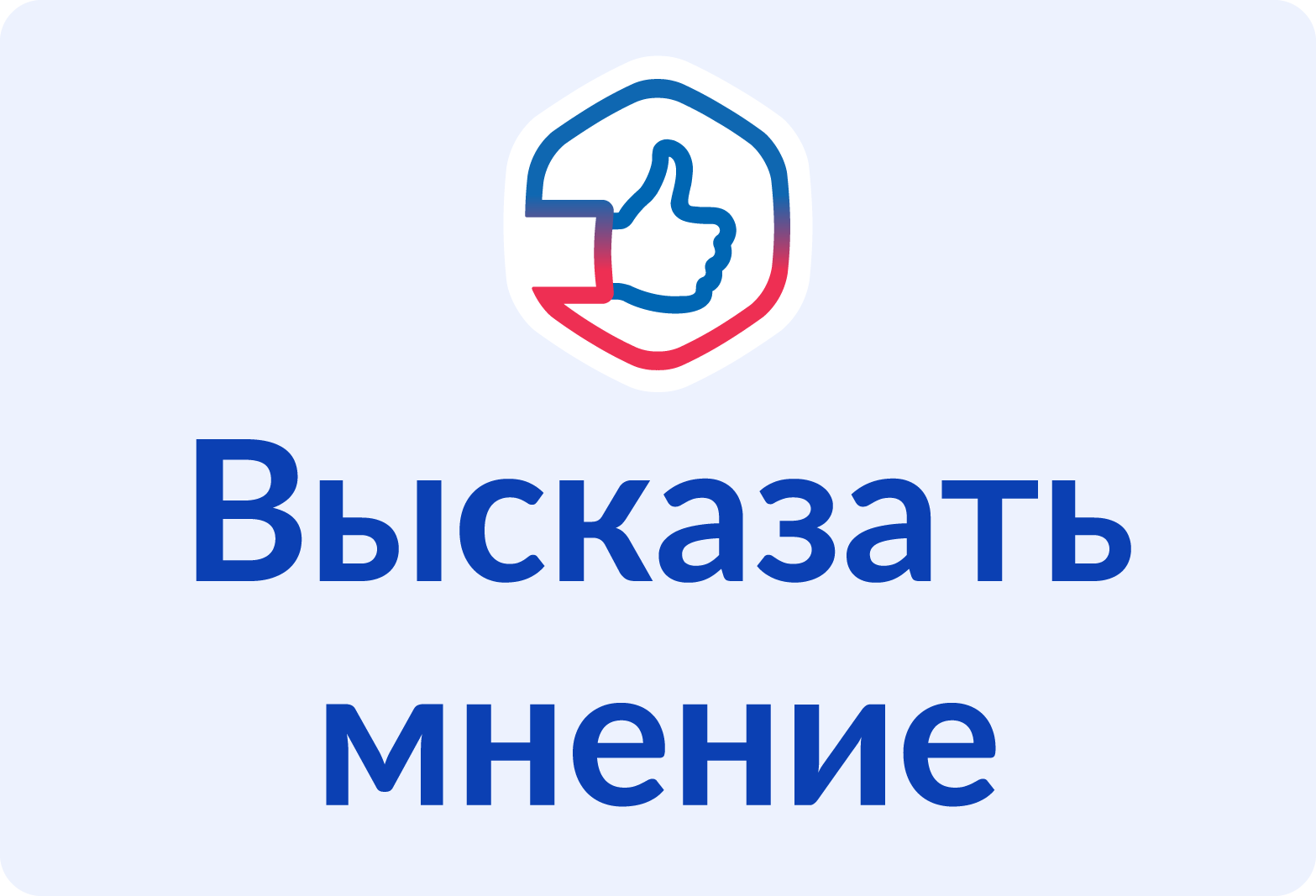Войной опаленное детство
Еще день-два назад наша дворовая дружина – полдюжины облаченных в картонные «панцири» первоклассников, с фанерными щитами и деревянными саблями – пыталась повторить «подвиг» ратников Александра Невского. А сегодня родители заставили нас нарезать побольше полос из газет, чтобы крестообразно оклеить оконные стекла , чтобы они не раскололись во время бомбежки.Войну по-настоящему мы ощутили, как все чаще наши желудки стали тосковать о пище. И тогда, вооружившись ведрами и коромыслами, прихватив с собой ребятишек, наши матери стали поочередно доставлять из железнодорожной столовой приправленные жидким жирком порционные галушки – комочки сваренного на костном бульоне теста из пеклеванной муки (мелкоразмолотой и просеянной, преимущественно ржаной). Делили порции по числу едоков, едва утолявших голод. А глубокой зимой, когда не стало хватать отпускаемого по карточкам пайкового хлеба, мы с матерью ринулись в ближайший колхоз «Новая жизнь» обменивать кое-какие вещи на муку и другие съестные продукты. На это надоумила нас эвакуированная еврейка, устроившаяся помощником бухгалтера в путейскую контору к отцу.
Поначалу нам повезло – оказались в хорошо протопленной избушке одинокой женщины. Она, не таясь, рассказала, что все жители деревни Сафроновка – выходцы из европейских сел, согнанные с родных мест коллективизацией. Как ни бедствовали они в первые годы сибирской жизни, а вот в самый канун войны вывели в зажиточные свой колхоз с богатым фруктовым садом. Но разразилась беда, и многие семьи остались без работящих и умелых мужиков. Чем это обернулось, мы ощутили через год, когда в Сафроновке ни за какие блага стало невозможно запастись кусочком деревенского хлеба. Многие семьи, получив похоронки, остались обездоленными.
А в тот первый день гостеприимная хозяйка быстро вскипятила самовар и угостила нас с матерью чаем с молоком и ломтями свежеиспеченного каравая, какие мать когда-то пекла в привокзальном доме на станции Залари. Подсказала нам, где можно выгодно обменять на муку и другое съестное наши с трудом приобретенные довоенные вещи.
Но вскоре нам пришлось прекратить деревенские обходы. В ближайшие поселения обращаться с обменом стало бесполезно. Не помог даже спирт, однажды добытый матерью на Троицком заводе. Кто-то надоумил, что спиртное в деревне на вес золота: на фронт уходит новое пополнение. И вот мы в пору таяния снегов направились в одно из отдаленных сел, где удалось обменять лишь две бутылки разведенного спирта на пару ведер картошки. А когда возвращались домой, нас встретило в овраге половодье. Такое мощное, что мама вынуждена была, оставив котомку, разутая переносить меня, десятилетнего, на горбу по обледеневшему дну бурного весеннего ручья. После вернулась за котомкой.
Ранней весной совместно с соседями мы ринулись на картофельные поля собирать перегнившие клубни. Напитанные слизью, с ошметками крахмала, они потом превращались в горьковатые лепешки. В первую же такую страду от заворота кишок умер «насытившийся» такими лепешками один из вятских земляков моих родителей – грузчик товарной конторы Иван Сорвин. И тем не менее подобную пищу мы продолжали употреблять, пока поля не были полностью очищены от перезимовавшего гнилого картофеля.
К лету 1943 года я остался за старшего в семье: следом за отцом с приступом аппендицита в Иркутскую железнодорожную больницу поместили мать. Врачи разрешили оставить четырем детям хлебные карточки отца (по 700 граммов в день и матери – 300 граммов). Наш общий паек составил 2,2 кг водянистого хлеба в день. Отстояв полдня в очереди за пайком, делил хлеб пополам, оставляя на вечер половину в конторе вагонного участка, где служил отец. Вторую половину делил на четыре части и старался полностью донести домой. И здесь начиналось кошмарное.
Сестра Люба и младший брат Геннадий съедали паек молча, а второй брат, Владимир, младше меня на пять лет, выходил на балкон и, обращаясь в сторону Иркутска, начинал причитать: «Папа, хлеба хочу. Папа, хлеба!» Не вынося этой мольбы, я закручивал папиросу из махорки и прятался в картофельной ботве, чтобы не слышать жалоб брата и самому утолить голод горьковато-едким дымком.
Потом решил «улучшить» рацион. Как-то на деньги, вырученные от продажи травяных веников, купил клубень редьки и чекушку прогорклого рыжикового масла. Но они не утоляли, а разжигали аппетит.
Сильнее всех исхудал брат Владимир. И когда через год в местной амбулатории детям-дистрофикам стали выдавать талоны на дополнительное питание: 1 кг сливочного масла и, кажется, 4 кг муки, Владимир дважды получил такой талон – врач просто сжалилась над ребенком.
Голодали в войну далеко не все. Мои сверстники, выпускники начальной железнодорожной школы станции Черемхово, крали с платформ грязноватую кристаллическую соль и продавали ее стаканами на рынке. За полста рублей покупали по булочке и пол-литра молока. Такой обед обходился в три стакана соли. И все им сходило с рук. Меня же за торговлю вениками однажды за шкирку схватил милиционер и так пригрозил, что я навсегда забыл дорогу на рынок.
Голодное военное время потом аукнулось в мирной жизни. Мой брат Владимир, вернувшись из армии, будучи стрелком-радистом морской авиации, стал страдать заболеванием легких, потерял аппетит. Умер он на сорок втором году жизни. Не дожил до пятидесятилетия и брат Геннадий – уснул и не проснулся – от своего ревмокардита.
Не дай Бог повториться жестокой войне! Особенно такой, которую навязала миру фашистская Германия.
Борис Мартынов, член Союза журналистов России, ветеран труда, член президиума Октябрьского совета ветеранов войны и тыла