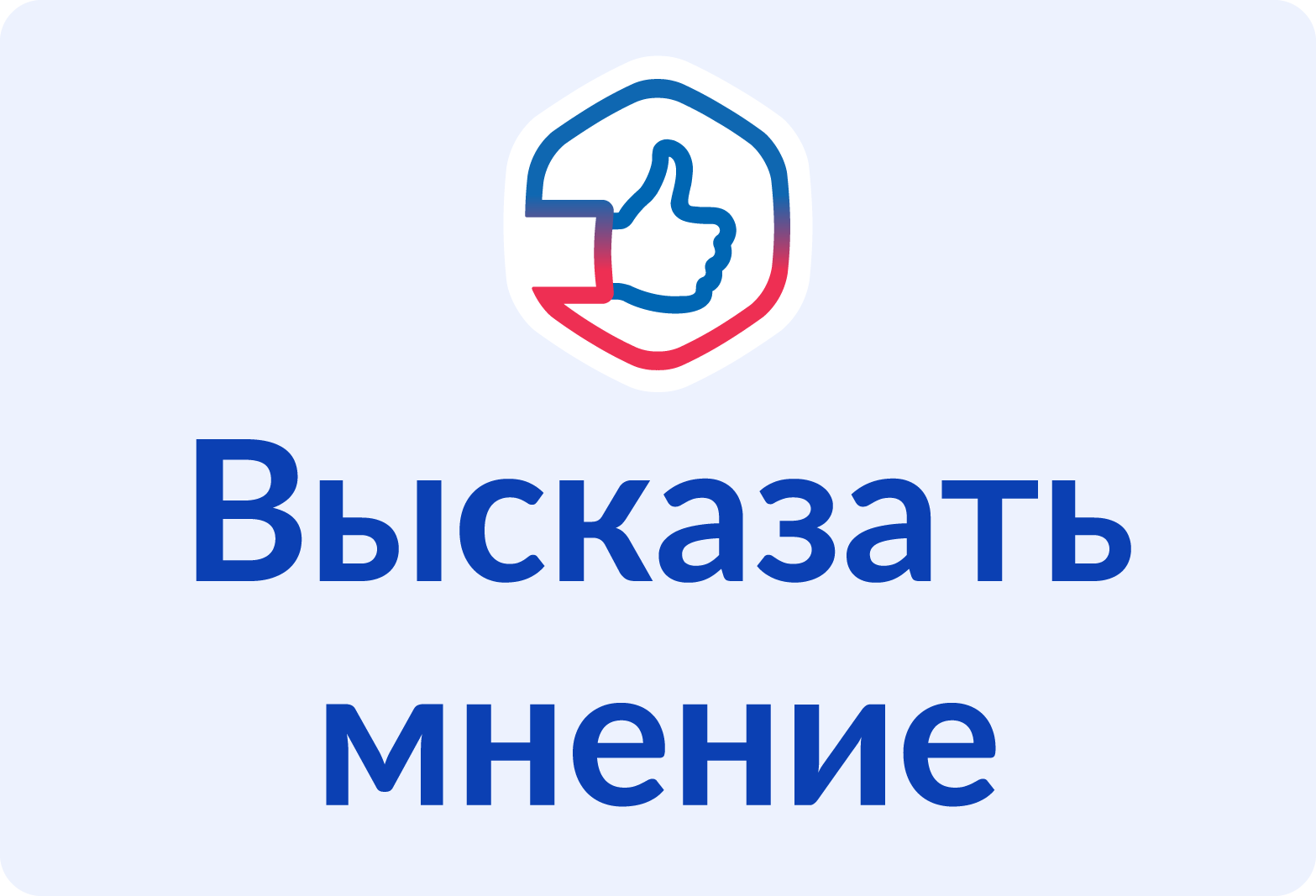Лев Аннинский: России нужно осознать саму себя
Бардовская песня, зародившаяся в середине XX века, захватила умы интеллигенции и вошла в сердца простых граждан. А имена лучших ее авторов-исполнителей: Михаила Анчарова, Булата Окуджавы, Александра Галича, Юлия Кима, Владимира Высоцкого, – уже вписаны в антологию русской поэзии.
Глубже осознать суть этого явления на втором вечере «Этим летом в Иркутске» зрителям помог известный литературный критик, автор трех десятков книг, в том числе выпущенной издателем Геннадием Сапроновым – «Барды», и более чем трех тысяч литературно-критических статей Лев Аннинский. Незадолго до выступления литературный критик ответил на вопросы журналистов.
Великая культура возникает только из больших страданий
– Лев Александрович, бывали ли вы ранее в Иркутске?
– Это мой четвертый визит в Иркутск. В 2004 году был здесь по приглашению Геннадия Сапронова, он тогда выпустил мою книгу «Барды» – и спросил: чего я хочу – гонорара или путешествие по Сибири? Я, конечно, выбрал последнее. После презентации книги мне показали Иркутск. За несколько лет до этого я был на фестивале «Поэзия на Байкале», тогда Сапронов еще не был издателем, а работал редактором «Зеленой лампы» и сделал со мной интервью. А впервые я побывал в вашем городе в 1964 году. Тогда еще по старой университетской памяти мы продолжали ходить в походы. Нам предстояло добраться через Иркутск до Байкала, проплыть на север, перевалить два хребта, выйти к Улькану, а никакого БАМа еще тогда не было, потом сплавиться по Киренге и дойти до поселка Казачинское. Мы это осуществили, но представляете, что значит выскочить в Иркутске из поезда и бежать, чтобы успеть на пароход «Комсомолец». Я тогда глядел по сторонам, пытаясь запомнить этот город и боясь, что никогда больше здесь не придется побывать. Слава богу, пришлось, и именно эта поездка вошла в мое сердце.
– Но потом-то вы хорошо рассмотрели Иркутск? Какой он для вас?
– В вашем городе живет дух декабристов, но не тех людей, которые хотели убить царя, а тех, кто за это потом страдал. Кроме того я ощутил толерантное отношение к истории. С одной стороны, присутствие Александра III, с другой – наследия советской эпохи. И третье, я почувствовал, что город очень приятный, у него есть сибирская мощь, и кроме того он изящен. В нем присутствует ощущение быта и бытия одновременно.
– Говорят, человек по сути своей от века к веку не меняется. А как вы считаете, XX век породил нового человека?
– Коммунизм как вера был построен на том, что ветхого Адама можно перековать в нового Адама – и тогда будет справедливость. В это мы верили до последнего. И наконец, на восьмом десятке жизни, я должен был признать, что человека улучшить нельзя. Об этом замечательно сказал Фазиль Искандер: «Человека нельзя улучшить, его можно только на время умиротворить». Вот с этим человеком человечество должно иметь дело. Но нужно отметить, что мы с вами без конца меняемся ради какой-то сверхзадачи. Коммунизм как модель тоже был взят, чтобы построить справедливое общество, базирующееся на постулатах свободы, равенства и братства. Парадоксально, ведь первое исключает второе, а третье это не компенсирует. Зачем же было отнимать Христа и подменять его чем-то подобным, только с противоположным знаком? Нужно было сплотить эту распадающуюся страну в узком промежутке между двумя мировыми войнами. И это нация, которая умела только писать стихи и всех любить! Это русские, которые были уверены, что весь мир должен их любить, и очень изумлялись, когда выяснялось, что это не всегда так. Как из этой гигантской страны сделать казарму? Нашли выход. Вы знаете, что вешают перед лошадью, чтобы она пошла, – клок сена. Вот коммунизм и был этим клоком сена.
Чтобы понять – меняется ли человек, нужно во многом измениться. И тогда станет понятно, мы еще те русские или уже другие? Ведь каждые сто лет мы не те? А где же мы те? Вот на этот вопрос мы сейчас и отвечаем: вспоминаем, где мы те.
– Вы писали, что во времена Пушкина и Толстого литература отражала единение государства и человека, во времена Достоевского – начало краха, во времена Платонова – трагедии этих взаимоотношений. А что же происходит с русской литературой сейчас?
– Она вспоминает, что она русская, а не всемирная и не советская. А вообще, как и на что реагирует великая литература в великой стране – это очень сложный вопрос. На самом деле мы – империя, которая объединяет пестрое и примиряет дерущееся. Легко ли жить в такой империи? Очень тяжело. А может ли великая литература зародиться где-нибудь еще? Мне помог ответить на этот вопрос великий философ нашего времени Григорий Померанцев, кстати, крутой антисоветчик. Он как-то сказал: «Великая культура рождается только в великой стране». Я долго думал и понял почему: великая империя – это тяжкое ярмо, а великая культура возникает только из больших страданий и сопротивления личности этой тяжести. Иначе литература начинает удовлетворять потребности пищеварения, но она тоже нужна, и мы ее сейчас имеем.
Первым записал Окуджаву на магнитофон
– Как рождалось наполнение вечера «Поэзия века»?
– Меня пригласили в память о Геннадии Сапронове, а он издал две мои книги – «Век мой, зверь мой…» и «Барды». О последней хочу сказать особо. Сапронов был не просто издателем этой книги, но и ее редактором, чрезвычайно щепетильным и очень бережным. На вечере я раскрываю то, что пытался сказать в этой книге. Помогать мне я пригласил замечательных бардов – Ирину и Михаила Столяр, которые причисляют себя к театральному направлению, пишут музыку к спектаклям на стихи различных поэтов. Мне еще хотелось понять, каким образом бардовская песня, которая неотделима от авторов, постепенно приобрела исполнителей, которые не пишут стихи, но перепевают песни. Почему вообще этот странный жанр возобладал у нас, какое место он занял, было ли что-то до этого? Почему называется иностранным словом «барды»? А другие варианты? Были – менестрели, шансонье. А у нас что-то такое было? Были калики перехожие, скоморохи – с юродскими песнями. Я считаю, что нам вообще нужно осознать себя. И в бардовской песне тоже.
– Правда ли, что вы первый записали песни Булата Окуджавы на магнитофон?
– Да, правда. В 1957 году я был молодым сотрудником московской «Литературной газеты», но душа моя оставалась в университете, где мы тогда пели студенческие песни, поэтому я их собирал, и все мои друзья это знали. И вот как-то к нам в гости пришли Александр Янов и его жена, и вдруг они запели «И комиссары в пыльных шлемах…». Я возопил: это студенческая песня? Они в ответ: «Нет, что ты, есть такой мужик со странной фамилией Окуджава, вот он и написал». Булат тогда тоже работал в «Литературной газете». Я подошел к нему и предложил записать его на магнитофон. Он согласился. Булат пришел, сел, согнулся над микрофоном и, не отрываясь, спел 15 песен. Когда мы закончили, я спросил: «А тебя кто-нибудь когда-нибудь писал?» Он сказал, на какой-то свадьбе пели все вместе. Я тогда еще не до конца понял, что произошло.
– Почему же на ваш взгляд этот жанр прижился и стал так популярен?
– Вопрос в том, что за лирический герой держал внутри эту мелодию, которая была не помпезная, а очень простая, и тексты тоже были не особенно сложные. Давайте вспомним, на чем строиться мировая лирика? На том, что один человек, отрешившись от всего на свете, пытается устоять против громады мира. Есть и другая крайность, ты – пылинка и винтик государственной машины. Все это ликование массы уже было в то время на парадах, с официальных трибун, и было чаще всего искренне, ведь мы недавно выиграли войну. Авторская песня нащупала нечто другое – малую группу, как сказали бы сейчас социологи. Как написал потом Олег Митяев: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Либо это какая-то компания, либо связка альпинистов, малая, но сплоченная. То, о чем обаятельный Юрий Визбор, улыбаясь, пел у костров.
– Но это в любом случае были советские люди по менталитету?
– Это был образ многонационального характера советской культуры. Вдумайтесь, кто были по национальности великие русские барды. У Окуджавы отец – грузин, мама – армянка, у родителей Визбора настоящая фамилия литовская – Визборас. А сколько преследовали и ссылали корейцев в Первую мировую войну, во Вторую? И что мы имеем? Анатолия Кима – замечательного русского прозаика, и Юлия Кима – прекрасного русского барда.
– Сейчас у нас другая беда, засилье западных слов, что с этим делать?
– Чтобы уравновесить на наших вывесках западноевропейские и прочие влияния, русский язык должен знать, где он находится? Говорите правильно – это единственное, что могу вам посоветовать.