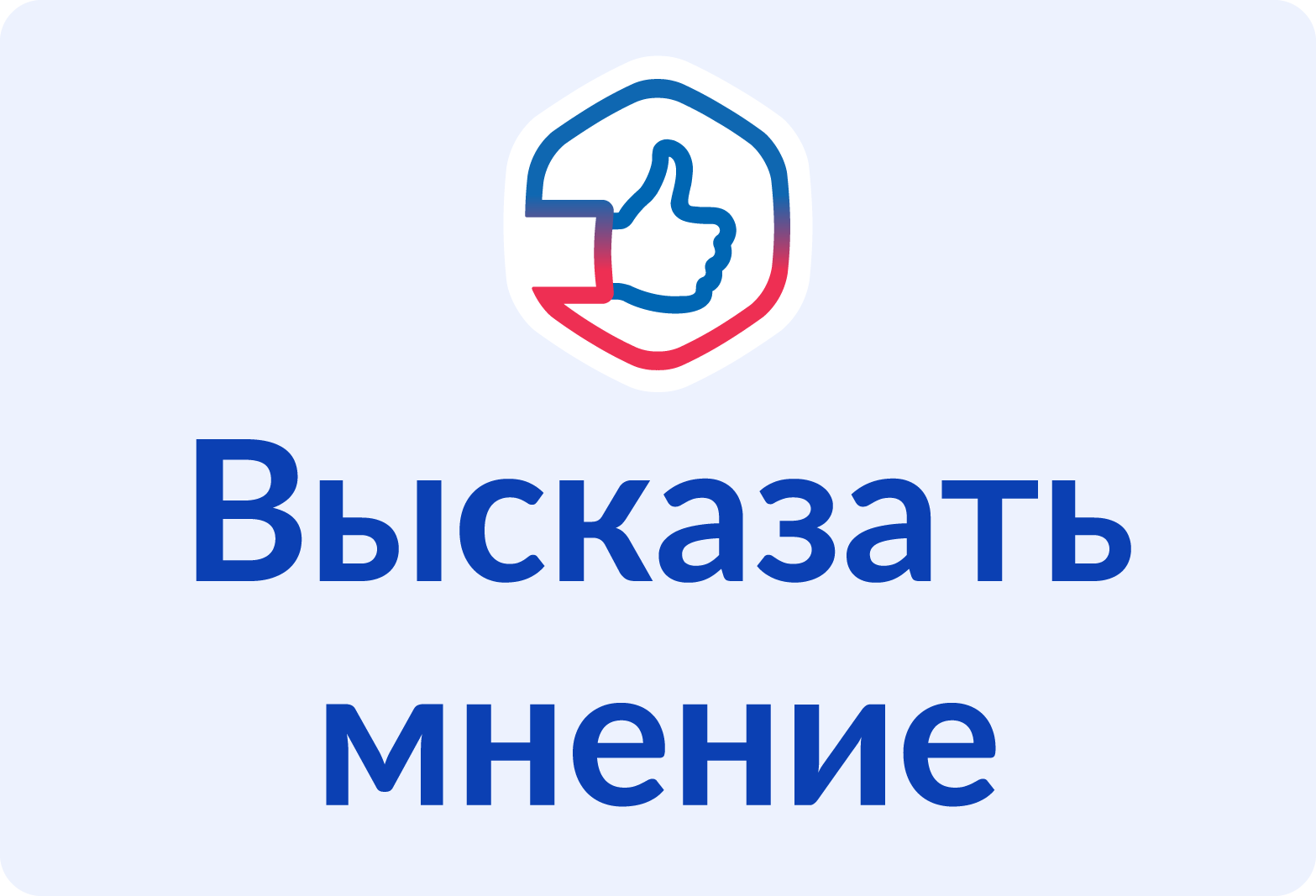Что имеем – не храним
Корреспонденты «Областной» побывали в гостях у настоящих тофов
Заезжие гости традиционно ищут в Тофаларии экзотику: юрты, олени, национальные сувениры, а главное – настоящих тофов – носителей культуры самой малочисленной народности мира. Журналисты мечтают, разузнав у них нечто самобытное, тут же запечатлеть эксклюзив на бумаге. Не стали исключением и мы, отправившись в Тофаларию.
Последний из могикан
С настоящими тофаларами, к нашему разочарованию, в Алыгджере оказалось непросто.
– Таких здесь осталось всего-то две семьи – Конгараевы и Тулаевы, – поведали нам местные жители – Остальные – метисы. У них тофаларами были даже не родители – бабушки-дедушки. Просто выгодно сегодня в документах в графе «национальность» писать «тофа». Для них льготы и на вертолет, и на строительство домов, и при поступлении в институт. Хотите познакомиться с настоящим тофаларом, идите к Спартаку. Он, конечно, совсем старенький, но, может, что и вспомнит…
Спартак Дмитриевич Конгараев – едва ли не самый последний чистокровный тоф в Алыгджере. Щупленький сухонький старичок. Натруженные руки. Смуглое обветренное лицо, изрезанное глубокими морщинами, и неожиданно ярко-голубые глаза, будто в них навсегда застыло весеннее небо.
– Родился я в алыгджерской больнице 26 марта 1935 года, – привычно начинает воспоминания Спартак Дмитриевич. – У родителей нас было четверо: три брата и сестра. Я посерединке. Отец с матерью работали в колхозе «Красный охотник», отец – пастухом, мать – телятницей. Оленей тогда много было: более двух тысяч только здесь в Алыгджере. С малолетства пас оленей, помогал матери ухаживать за телятами…
Ломая степенный ход интервью, спрашиваю:
– А почему вас так интересно назвали – Спартак?
– Случайно. Мать меня рожала дома. Пришла записывать в сельсовет, а председатель в то время читал книжку «Спартак». Отвлекся ненадолго, посмотрел на мать и говорит: «Сына будут звать Спартаком! Так и запишем». Мать неграмотная была, пожала плечами и согласилась, но до конца жизни так и не смогла научиться выговаривать мое имя. Называла «Партак». А по-своему, по-тофаларски, нельзя было называть. Бабушка рассказывала, что хотела дать мне имя Сылтыс – звездочка, но не случилось…
Отец Спартака Дмитриевича погиб на фронте в 1943-м. Тяжело пришлось в военное лихолетье осиротевшей семье. Он вспоминает, как по замерзшей реке шли в Нижнеудинск обозы с олениной и рыбой. Женщины управляли большими гружеными санями, ребятишки переворачивали оленьи седла – ангышак – получались своего рода саночки.
Со школьными годами у нашего героя связаны не самые лучшие воспоминания:
– В первом классе я просидел два года. Все из-за того, что не знал русский язык, – объясняет он. – Тогда ведь как было: все на русском, никто ни о каком культурном наследии не заботился. Тофалары своей письменности не имели, да и сам язык никто не изучал. У нас тогда такой вредный руководитель райкома работал, не то что язык, даже одежду нашу национальную не переносил. Увидит кого в кухлянке, тут же кричит: «Одевайся по-людски!»
Одолев русскую словесность, Спартак Дмитриевич стал едва ли не самым образованным тофаларом в Алыгждере:
– После службы в армии меня направили в школу руководящих кадров, – вспоминает он. – Но партийная работа оказалась не по мне. Я хотел стать ветеринаром. Поехал учиться в ветеринарную школу в Кутулике. Получил специальность, вернулся домой. Здесь был старый ветеринар, я его опыт на практике перенимал. Так всю жизнь ветеринаром и отработал. Ушел на пенсию в 1995 году. Ничего необычного в моей жизни не было. Женился, растил детей, занимался охотой – все, как у всех…
На вопрос, знают ли дети Спартака Дмитриевича тофаларский язык, отвечает:
– Совсем немного. Не хотели они ему учиться, видно стеснялись, да и не за чем было. В детском саду, в школе, в интернате только на русском ребятишки говорили. Тофаларский язык в школе стали изучать уже в 90-е годы. В 70-х составили букварь. Я помогал в его составлении профессору Рассадину.
– Может, вспомните какие-нибудь тофаларские обычаи, обряды?
– Ничего особенного у нас не было. Помню, отец рассказывал, что когда женился, за невесту – мою мать, она гутаринская была, платил ее родителям выкуп оленями, шкурками соболей и белок. За мать отец три оленя отдал. У меня от отца осталось оленье седло. За него отец четыре оленя отдал. Еще помню, когда юрту ставили, костер строго над отверстием в потолке делали. Поклонялись богу, которого звали Боуран, и тайге (ударение на «а». – Авт.). Есть песня такая: «Заберусь на высокую гору и посмотрю – не видать ничего». Едешь в тайгу – разговаривай с деревьями, зверями. Больше всех в тайге у нас почитали марала. Медведя сильно не добывали. Изредка только, чтобы сало поесть.
– А случай интересный какой из охоты вспомните?
– Раз поехал на охоту, медведя увидел совсем рядом – ружье не успеешь выхватить, сказал ему по-тофаларски: «Я тебя не трогаю, и ты меня не трожь. Ступай своей дорогой!» Он меня понял, ушел. Меня никогда ни один зверь в тайге не обидел, чувствовали, видно, не для баловства я к ним пришел. Это сейчас браконьеров развелось: стреляют кого ни попадя – и матку, и детенышей!
– Чего же ты не говоришь, каким охотником был, – с обидой бросает старшая дочь Спартака Дмитриевича Маргарита. – Отец как-то за сезон 25 соболей добыл! Я прибежала из школы, а у нас весь диван соболями, как покрывалом, устлан! Вот где красотища была! После, правда, такого больше не случалось. Но белку он всегда помногу приносил.
Напоследок прошу Спартака Дмитриевича рассказать что-нибудь на тофаларском языке.
– Я вам сказку расскажу про кабарожку и медведя, – обещает он. – На праздниках всегда ее детям рассказываю. Сначала на тофаларском, для экзотики, а потом переведу на русский, чтобы вам понятно было:
– Медведь взял топор, пошел рубить дрова и встретился с кабарожкой. Стали они спорить, у кого больше шерстинок. Медведь говорит: «Конечно, у меня. Видишь, какой я большой и лохматый! А ты маленькая такая!» А кабарга отвечает: «Давай посчитаемся». Стали они шерстинки считать. Медведь закончил и сказал, сколько у него получилось. У кабарожки оказалось на четыре больше. «Я выиграла!» – закричала кабарга радостно, а медведь разозлился, хвать топором и отрубил у нее длинный хвост. С тех пор у кабарги хвостик стал маленький, а сама она пугливая.
– В чем же мораль?
– Не хвались попусту, не завидуй большим, оставайся таким, как есть. Жалко, у людей это не всегда получается…
Русский тоф
– Хотите, познакомлю с русским, который знает тофаларский язык лучше, чем сами тофы? – предложила руководитель этнокультурного центра Наталья Анциферова. – Николай Петрович Марущенко неподалеку от нас живет. Пойдемте в гости!
Уже в ограде явственно слышен крик:
– Это твой окончательный ход?! Подумал?
– Ты меня опять обманула?! Ладно, девки, дайте срок, будет вам и белка, будет и свисток!
– Ты опять начинаешь? Чего меня торопишь?
– Что-то вы, гражданочка, задумались. Эх-х, голова моя не кочка, что-нибудь да придумает!
– Может, не пойдем? – с опаской поглядывая на дверь, предлагаю я. – Там у них какой-то скандал грандиозный…
– Какой скандал! Это они в шахматы играют! – хохочет в ответ Наталья.
Увиденная картина приятно изумляет. За столом в центре комнаты сидят разгоряченные хозяева. Разделенные шахматной доской супруги заканчивают партию:
– Ты ж хитромудрая! Согласен на ничью! – великодушно предлагает Николай Петрович.
– За 47 лет не узнал что ли? – вспыхивает Вера Петровна. – Никакой ничьи, тебе шах и мат!
Наступает благодушная тишина.
– Николай Петрович, мне сказали, что вы свободно говорите по-тофаларски…
– Говорю. Да и как не говорить, я же здесь вырос, почти полвека прожил. В годовалом возрасте родители привезли в Нерху, после переехали в Алыгджер. В то время русских всего человека три было, остальные тофы. Язык сознательно не учил, он сам мне в голову залез. Потом, когда интернат, детсад и школу организовали, стали требовать, чтобы все только на русском говорили.
Николай Петрович рассказал, что знания тофаларского его не раз выручали в жизни:
– Я вам такой смешной случай расскажу из школьной жизни. Прислали к нам учителя молоденького по немецкому языку, вызвал он меня однажды к доске, я начал пересказ на немецком и вдруг забыл. Смотрю, учитель так мечтательно в окно смотрит – весна, может, влюбился он в кого, не знаю. Я, чтобы не прерывался ответ, продолжаю чесать на тофаларском, как ни в чем не бывало. Ребятишки хохочут, а он ничего не понял, поставил мне пятерку и велел садиться. Помню, еще в 1954 году были здесь каюры – тувинцы, я у них переводчиком работал. Тоже язык помог. Сегодня, между прочим, тофы своего языка-то и не знают. Учат в школе отдельные слова, а говорить не умеют. Несколько лет назад предлагал директору школы учить ребятишек тофаларскому – не разрешила. Видно, не надо это никому.
– Как не надо? У вас в Алыгджере этнокультурный центр работает, дети занимаются, амулеты мастерят, поют, танцуют в ансамбле.
– Вот только его руководителю Наталье это еще и надо, а остальным… Да и что сохранять? Все забыто давным-давно. Есть же поговорка: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем!»
Выйдя от семьи Марущенко, останавливаюсь у дома. Неподвижные сплетения веток в голубом небе, красноватые, теплых оттенков стволы деревьев… Приходит понимание ненаверстанности происходящего: все уже отстоялось, случилось, и не помогут тут ни повторения, ни перемены.
Спартак Дмитриевич Конгараев – последний чистокровный тоф в Алыгджере
Семья Марущенко, глава Николай Петрович, русский по национальности, свободно говорит по-тофаларски