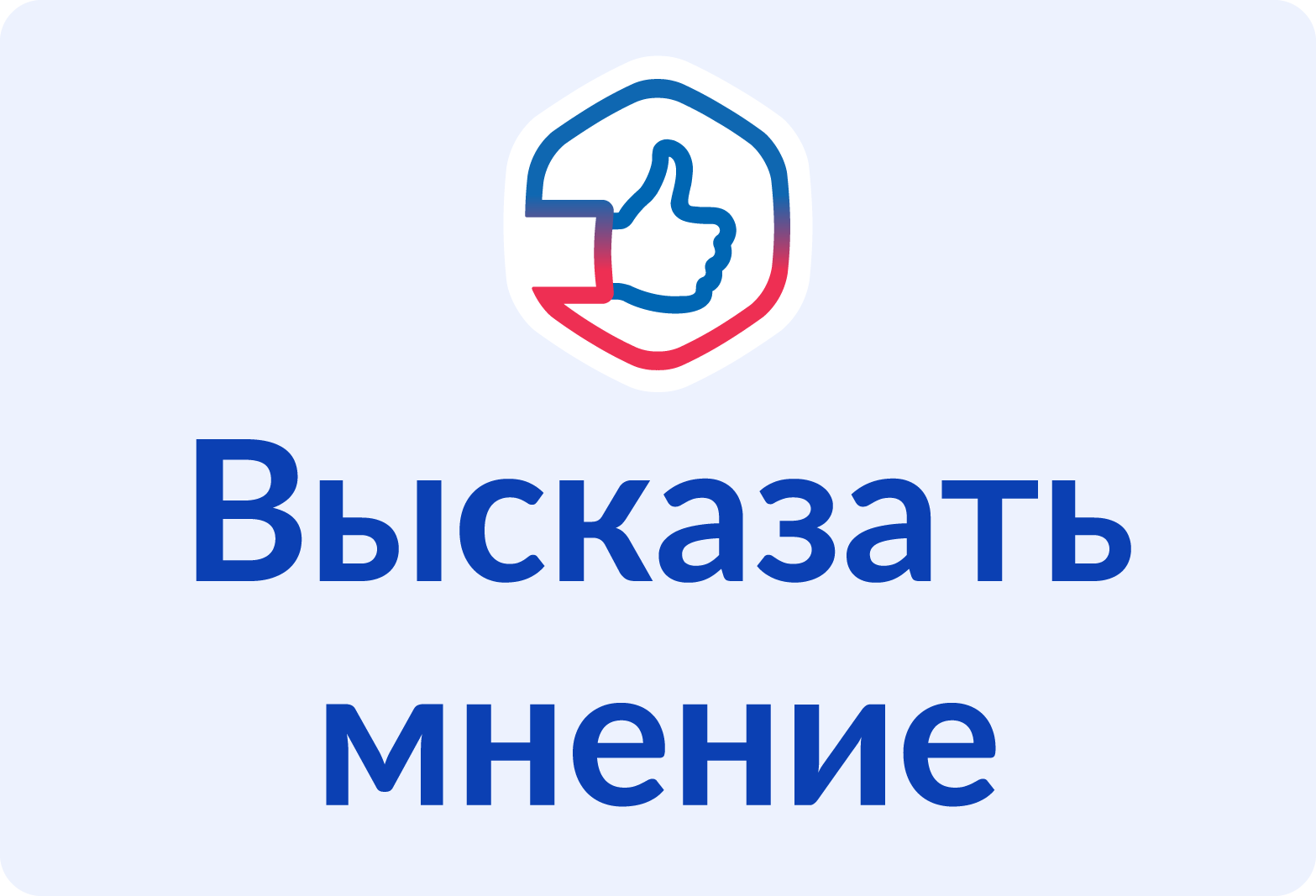Владимир Алейников: Настоящие стихи совпадают с вибрациями Вселенной
Встречу с Владимиром Алейниковым, который в этом году стал гостем Международного фестиваля поэзии на Байкале, можно воспринимать как соприкосновение с легендой. Ведь он – лидер скандально известного в советские годы поэтического сообщества шестидесятников СМОГ. А еще это художник, ведь он творит не только словом, но и кистью. Нежные, тонкие, словно проступающие сквозь туман образы в его картинах ничуть не уступают по мастерству поэтическим произведениям. Стихи же, многообразные по ритмам и пластике, полифоничны и очень естественны, как внутренняя музыка мысли.
– Владимир Дмитриевич, как и когда вы начали писать стихи?
– Первые стихи я написал лет в семь-восемь. В школьные годы увлеченно писал прозу – фантастику и приключения, хотя были уже и тексты, более близкие к реальности. Занимался музыкой, рисовал. Снова поэзия началась лет в 14, и уже в 16 писал стихи, от которых сейчас не отказываюсь. Жил я на Украине, в Кривом Роге. Там у нас была группа молодых поэтов. Я, как самый младший из них, непрерывно работал, старался совершенствоваться – и вскоре оказался впереди них. Осенью 1962 года в наш город приехал Микола Винграновский, знаменитый украинский поэт, известный киноактер, режиссер. Он послушал тогдашние мои произведения и сказал очень серьезно: «Если бы я в шестнадцать лет писал такие стихи, я считал бы себя гением». Позже, на протяжении более чем полувека, подобные слова я слышал множество раз. Но вовсе не ликую от этого, а продолжаю жить по возможности просто, стараюсь вести себя достойно и очень много работаю.
– Что для вас стихи? И для чего они нужны, на ваш взгляд?
– Стихи для меня – жизнь. Судьба. Призвание. Путь. Настоящие стихи, как и настоящая музыка, совпадают с вибрациями Вселенной. Стихи нужны для того, чтобы, как в детстве, сохранить изумление перед миром, перед многообразием бытия. Настоящий поэт всегда создает свой собственный мир, в который читатель может войти, жить в нем. Стихи нужны для того, чтобы даже в самые сложные времена торжествовали свет и добро. Чтобы жила любовь – движущая сила бытия. Стихи нужны для того, чтобы преодолевать человеческое разобщение. Для того, чтобы сохранить дух. Не случайно Розанов писал: «Собирайте дух, собирайте дух, собирайте дух! Смотрите – он весь рассыпался!» А Хлебников призывал писателей вести дневники духа. Это есть в моих стихах. Нужны стихи для того, чтобы расширять возможности речи. Речь – наше все.
– На фестивале поэзии вы вспоминали СМОГ, говорили, что жили в то время на другой планете. Что вы имели в виду?
– Это было непрерывное творческое движение. Появлялись достойные произведения, интересные авторы. Вокруг меня было много ярких и талантливых людей в разных областях: в поэзии, прозе, живописи, музыке. Это была наша, неофициальная культура, или, как сейчас говорят, андеграунд, хотя это слово я не люблю, оно какое-то нерусское. Была это словно другая планета, совершенно непохожая на все официальное, разрешенное. Были в нашей среде взаимопомощь, своя этика, хорошая дружеская критика, искреннее внимание к сделанному соратниками. Когда образовался наш СМОГ, начался невероятный шум – сразу же появились публикации на Западе, о нас говорили зарубежные радиостанции, на наши выступления собирались огромные толпы людей, любящих поэзию, нас везде принимали, везде ждали. Началась небывалая молодая слава. И власти незамедлительно приняли самые суровые меры, чтобы уничтожить наше содружество, любыми, даже изощренными и жестокими способами. Смогистов преследовали, выгоняли из вузов, отправляли в психушки и в ссылки, клеймили в печати. На издания в отечестве был наложен запрет на долгие годы. Но существовал самиздат. Я печатал стихи на машинке в нескольких экземплярах, отдавал знакомым – и тексты широко расходились по всей стране. Длилось это четверть века. Мои публикации на родине начались только в период перестройки.
– Как вы выживали в то непростое время?
– Я по образованию историк искусства. За СМОГ меня выгнали из университета, где я учился, а заодно – из комсомола, причем руководил этим тогдашний университетский комсомольский начальник Руслан Хасбулатов. Несколько позже – все-таки восстановили. За нас горой стояла свободолюбивая интеллигенция. Страдальцев любят на Руси. В этом я убедился на собственном опыте. Один из людей, которые помогли мне, – поэт Арсений Тарковский, который никогда раньше не вникал в различные писательские дела, но вдруг проявил твердость духа и волю, чтобы меня восстановили в МГУ. Он высоко ценил мои стихи. Говорил, что у меня каждая строчка – гениальная. Слышать такое именно от него – редчайший случай. Жил я в советское время трудно. Работал в экспедициях, грузчиком, в школе, в газете. Друг другу все мы, представители «другой литературы», «другого искусства», постоянно помогали. У меня покупали мои самиздатовские сборники, мою живопись и графику. Иногда устраивали мои вечера стихов, платные, где собиравшиеся в большом количестве люди платили по рублю – и этим поддерживали меня. Но чаще, разумеется, и охотно, читал я стихи просто так, не помышляя ни о каких деньгах. Время было орфическим. Стихи прекрасно воспринимались людьми с голоса.
В 70-х годах я бездомничал, семь с половиной лет скитался по стране. Бывало, что и голодал. Но постоянно, упорно работал.
В 80-х писал стихи и сказки для детей. Потом вплотную занялся переводами поэзии народов СССР. Надо ведь было кормить семью. Переводил я очень хорошо, это все национальные авторы быстро поняли, и ко мне стояла очередь желающих, чтобы их стихи перевел именно я. Вышло полтора десятка сборников моих переводов, и я думал, что мне так и придется всю жизнь существовать в качестве известного переводчика, тщетно ожидая издания собственных текстов. И вот, неожиданно для всех, в 1990 году переводить я решительно прекратил. И настали времена свободного книгопечатания. Вышли большие мои книги стихов – целое собрание, хотя и далеко не полное. Ну а позже – развалился Союз. И стал я жить в Коктебеле.
– Правда, что вы описали это время в прозе?
– Да, я написал серию книг прозы. Общее название серии – «Отзывчивая среда». Чаадаев говорил: «Слово звучит лишь в отзывчивой среде». Такая среда у нас была. Но сейчас в живых остались лишь немногие. Мои книги – не исследовательская литература, а живая, свободная, ассоциативная проза, в которой, помимо портретов моих соратников и современников, есть множество различных историй, в диапазоне от забавных до драматичных и трагических. Все это было в моей жизни. Литературоведы затрудняются определить жанр моей прозы, настолько она необычна, и называют мои вещи поэмами и даже былинами. А это – проза поэта.
– Давно вы занимаетесь изобразительным искусством?
– Мой отец был замечательным художником. Он выдающийся акварелист. Рисую я с детства. В Москве, в нашей андеграундной среде, я дружил со многими художниками, нынешними звездами второго русского авангарда. Периодически мои выставки проходят в Москве, Санкт-Петербурге, в городах России и Украины. Не менее десяти тысяч моих работ разбросаны по разным странам мира, находятся в музеях и частных коллекциях.
– Как, на ваш взгляд, можно определить такое явление, как авангард, и каково его место в искусстве?
– Авангард – это, прежде всего, новизна, умение расширять возможности речи, находить новые изобразительные средства, переходить границы привычного. Это не какие-то формальные игры, но весьма серьезные произведения. Думаю, элементы авангарда есть у любого серьезного русского поэта, прозаика, художника. По большому счету под знаком авангарда прошел весь XX век. В молодости стихи мои были более раскрепощенными, с возрастом – стали сдержанней. В новом столетии авангард продолжается. Для него теперь важны и хорошее знание традиций, и весь наш прежний опыт.
– Но сегодня за авангард выдают все, что угодно.
– Сейчас под авангардом все больше понимают формальное искусство. Но живопись должна оставаться живописью, вне зависимости от того, в какой манере она создана – в реалистической или авангардной. А некоторые нынешние псевдохудожники запросто могут взять старую металлическую кровать, соединить ее с каким-нибудь металлоломом, подвести под это теоретическую базу и выставить, вот тебе и инсталляция. Но это не искусство, а заурядные выверты. Поэзия тоже, разумеется, должна быть поэзией, прежде всего, а не формальной игрой со словами.
– Как тогда отличить настоящее искусство от модной профанации?
– С помощью чувств. Нравится – не нравится, это единственный критерий. Все должно быть по-настоящему. Мы в свое время творили с полной отдачей. Многих моих соратников давно нет на свете, и раньше их картины стоили копейки, а теперь – сотни тысяч долларов. Кстати, и цена, и слава, сегодня не критерий таланта, ведь раскрутить можно кого угодно. То есть в современном искусстве присутствует некий сознательный цинизм.
– Как вы относитесь к тому, что книги все больше вытесняются электронными носителями. Ведь вы говорили, что мыслите книгами?
– Книги будут существовать всегда. Ничем их не заменишь, никакими электронными носителями. Пусть уменьшатся тиражи. Но книгу люди по-прежнему будут любить. Быть наедине с книгой – радость. А это великая сила.
Мыслю я книгами – и в поэзии, и в прозе. Вначале я слышу некий звук, вроде камертонного, который вытягивает за собой все дальнейшее звучание, потом вижу книгу внутренним зрением, как некое образование, наподобие пчелиных сот, – и тогда уже начинаю что-то записывать. Нахожусь за работой – в состоянии, подобном трансовому. Никаких планов не делаю, только порой – краткие рабочие записи. Что именно стану писать – наперед не знаю. Речь ведет меня вперед, вглубь и ввысь. И постепенно складывается книга. Чтобы так писать, нужна огромная школа. Она у меня была. В книге нужны и важны полифония, гармония, синтез всех изобразительных средств, ритм, дыхание, свобода, мера, естественность речи. Обычно я говорю, что мои книги пишут себя сами. Хотя, разумеется, пишу их я. И это – большая работа. Слух и зрение, голос и свет – вот что такое книга. Я ведический поэт. Мироощущение у меня такое. Обостренно чувствую единство всего сущего и стараюсь выразить это в слове.