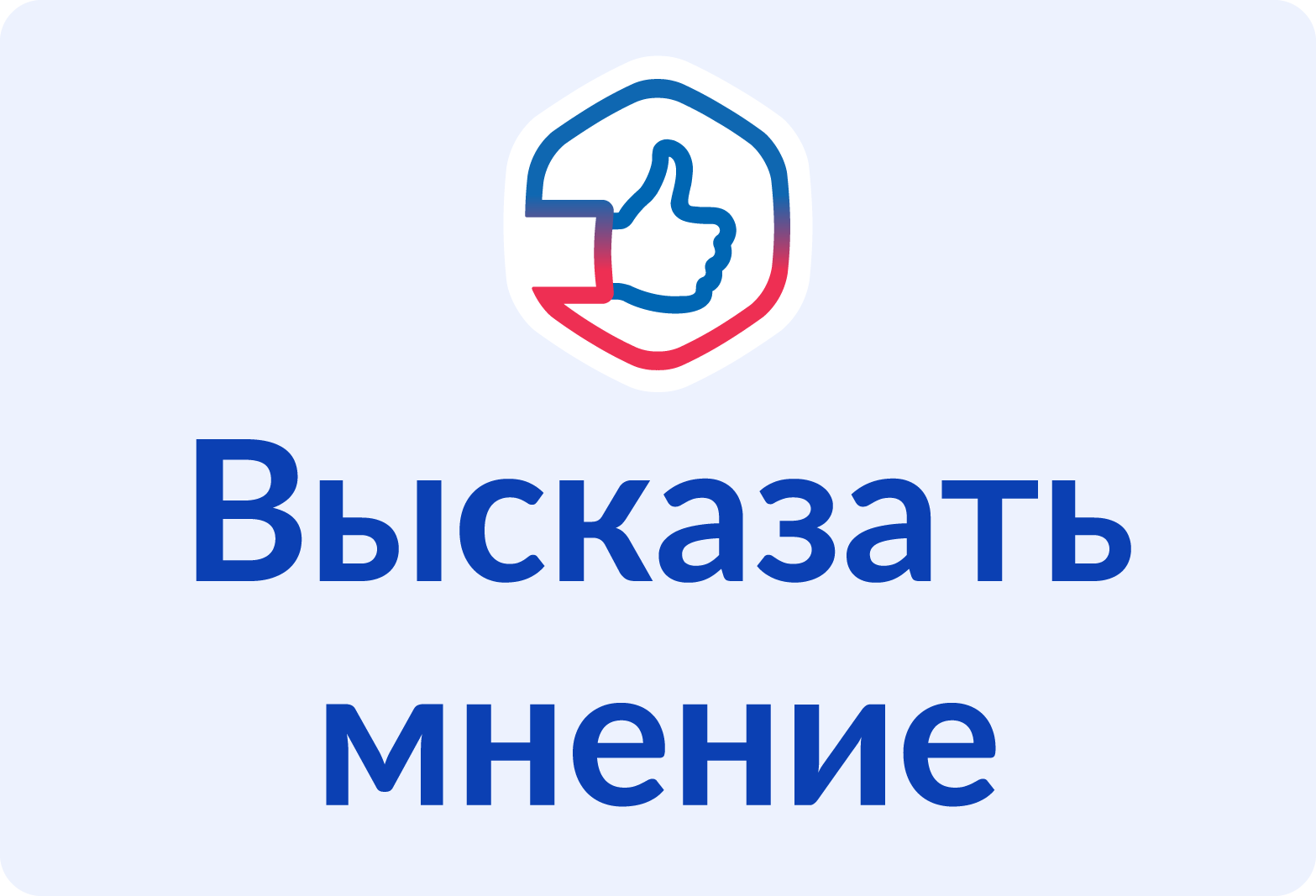Я останусь вечно молодым…
История жизни и смерти строителя БАМа Шальми Пинхасова
В прошлом пятничном выпуске я рассказал о моем друге, строителе БАМа Михаиле Калашникове. Сегодняшнюю историю вполне можно считать продолжением очерка «Рядовой строитель БАМа», поскольку судьбы многих самых разных людей, приехавших на стройку века из разных уголков СССР, переплелись так, что стали неразрывны.
В моей жизни было много счастливых встреч – Булат Окуджава, Александра Пахмутова, Михаил Ульянов, Евгений Евтушенко… Каждую из них я искал – звонил, обращался через общих знакомых, договаривался. С Шальми Пинхасовым меня свел случай, и пусть это имя не столь громкое, как приведенные выше, я уверенно ставлю его в один ряд с моими всемирно известными знакомыми.
Случайная встреча
Мы встретились в неуютной заежке Магистрального. Таких встреч было множество, но эта не могла не запомниться – он был необыкновенно красив; увидев такое лицо, его уже не забудешь. Огромные карие глаза, четкие линии бровей, пышная шапка кудрявых смоляных волос. Ко всему этому – гордая осанка владетельного кавказского князя.
– Шурик-дагестанец, – представился он и выжидающе смотрел на меня своими огромными глазами. – Не знаете? – негромко удивился он. – Вообще-то меня на БАМе все знают, – добавил он с затаенной гордостью.
– Так уж и все? – усомнился я.
– На нашем участке – все, – ответил он твердо.
– И в Звездном, и в Магистральном, и в Улькане, и в Кунерме? – продолжал сомневаться я.
– И на Ние тоже, – спокойно продолжил он, – а в Улькане я живу и работаю. Вы же ездите по трассе – спросите в любом поселке, кто такой Шурик-дагестанец, и вам скажут.
– И что же мне скажут? – спросил я с изрядной долей сарказма в голосе.
– Я пою, – ответил он лаконично и сверкнул на меня черным огнем своих глаз; видимо, мой скепсис его начал раздражать, – попросите любого парня включить магнитофон, и услышите.
Исчерпав запасы сарказма, я стал говорить с ним серьезно – сообразил, что такой красивый, уверенный в себе человек не может быть заурядным. Красота его была ни конфетной смазливостью, ни слащавым обликом заядлого ловеласа – это была гордая, спокойная красота настоящего мужчины, горца, который смеяться над собой никому не позволит.
Потом он пел для меня, одну его песню я записал на диктофон. Это было есенинское «Не жалею, не зову, не плачу…» Пел он негромко, гитары при нем не было. Я навсегда запомнил его глубокий, выразительный голос. Не стану сочинять, что почувствовал в его пении нечто трагическое. Но позже, узнав о его судьбе, понял – эта песня была глубоко провидческой. Он пел: «Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым…» Задним числом эти знаки можно расшифровывать по-всякому – делать смысловое ударение на словах «Я не буду…», можно выдернуть слово «охваченный», охватывает не только «увяданья золото», но и безжалостный огонь. Есть соблазн строку «Я не буду больше молодым» обратить в оксюморон «Я останусь вечно молодым». Сейчас, когда мне приходят на ум эти строки, неизменно в памяти возникает гордый и печальный образ Шальми. По национальности он был горский еврей, и принадлежность к этому вечно гонимому народу вносила еще одну трагическую краску в палитру его судьбы.
Трудное начало
Недавно я прочел у Дмитрия Быкова: «Окуджава и Галич воплощали в себе две крайности. Окуджава – характер кавказский, Галич – еврейский». И тут же вспомнил Шальми – родом из Дагестана, выросший в Дербенте, он в себе сочетал обе эти «крайности». Да еще имел темперамент творца – писал каспийский роман, слова для своих песен. Как же нелегко ему, человеку с тонкой душевной организацией, жилось на этом свете, да еще в этой стране! Ведь даже на интернациональном БАМе он прижился непросто. К тому же он оказался правдоискателем, а на таких в нашей богоспасаемой стране всегда смотрели и смотрят косо.
Об этом пишет и его друг Анатолий Ушаков, в своем дневнике, опубликованном под заголовком «Моя пристань» (он был заместителем секретаря комитета комсомола ульканского СМП-571): «…Бригада такелажников встретила без особого энтузиазма мое предложение о принятии в ее ряды нового рабочего. «Артист. Все про любовь поет… А у нас работа авральная, среди ночи иной раз приходят грузы. Артисты нам не нужны!»
Я знал и другую причину отказа. Это касается… приписок в нарядах на разгрузочные работы. «У ребят неравная работа, и я не могу их без заработка оставлять, – откровенно признавалась диспетчер. – А этот к нам придет, правду начнет искать…»
В конце концов Шальми устроился в незаметную бригаду.
Это была бригада Ивана Лиходеда, негромкая, но работящая, дружная, по-настоящему интернациональная – кроме русских, были там украинцы, азербайджанцы и даже два закарпатских венгра. Шальми добавил еще одну, довольно экзотическую краску.
Но вернемся к бамовскому началу Шальми. Он приехал на стройку века в августе 1974 года в составе дагестанского отряда. И… попал на вторые пути: опытные транспортные строители знают, что эта работа ничем не хуже других, но для тех, кто поехал «за туманом и за запахом тайги» – проза жизни! Ни тебе сосен, что вонзаются в небо, ни палаток, ни костров. И Шальми уехал домой. Удрал, получается, дезертировал. Может, он рассуждал так: дезертируют с передовой, а с глубокого тыла просто увольняются.
Дома его приняли с радостью, родители, сестры, братья, соседи – Шурика любили все. Что удрал, никому не сказал. А вокруг только и слышно: «Бамовец приехал, глядите, бамовец!» Дербент – город небольшой, человек со знаменитого БАМа тут был в диковинку, почти как космонавт. Стыдно стало, удрал опять, теперь уже из дома.
Вернулся. Но в этот раз его вообще никто брать не хотел. Можно представить, как ему, человеку гордому, с характером, было в это время горько…
Дорога на Улькан
Но тут повезло – Шальми встретил Валентина Уракова. Это было действительно везение. Ураков был в значительной степени лицом Улькана, и лицо это мужественное и симпатичное, даже обширный след от ожога его не портил, скорее наоборот.
Валентин был комсомольским секретарем ульканского поезда. Должен сказать, что таких руководителей комсомола я, кажется, больше не встречал, хотя вообще-то видел их предостаточно. Очень часто попадались такие, что были шестерками у партийного начальства – куда пошлют, туда и идут. С Валентином так не получалось. Его манера держаться независимо, мощная стать, громадная ладонь, зычный голос импонировали всем. Без него в поезде не решался ни один серьезный вопрос, вплоть до кадровых. Его словечко «Огонь!» выражало широкую гамму императива, от «Вперед, за работу!» до «Так выпьем, друзья!» Многие ему подражали.
Улькан не зря называли лучшим поселком иркутского участка. Его лидерство определялось руководителями. Начальником поезда был Анатолий Фролов, вчерашний секретарь Усть-Илимского горкома комсомола. И тоже человек неординарный – он не только уверенно «посадил» поезд возле старинной деревни Юхта, но и быстро начал строительство самого поселка. Начал с того, что после общежитий организовал строительство отличной спортплощадки, летнего кинотеатра «Славутич» и танцплощадки «Крымчанка» – костяк поезда составляли ребята из украинского отряда, в их составе была группа крымчан. (Не могу в скобках не вспомнить, что начальник «Ангарстроя» Василий Бондарев, приехав на Улькан летом 1975 года и увидев все эти «излишества», спросил Фролова: «Ты басню «Стрекоза и Муравей» читал? Смотри, не пропляши лето красное!») Фролов не «проплясал», все сделал в срок. При этом он не стеснялся играть на гармони на сельских свадьбах, лучше всех бегал спринт.
Главным инженером был еще один Анатолий – Машуров. Он дополнял Фролова большим производственным опытом, но находился несколько в тени публичного начальника. Когда Фролов перешел в трест «Нижнеангарсктрансстрой», его сменил Машуров.
Этот триумвират определял сам стиль жизни поселка. Я бы сказал, что это был самый яркий и, может быть, последний всплеск энтузиазма романтиков. Оговорюсь: это были деятельные романтики. Недаром именно в Улькане рождались почины, но неформальные, а даже трогательные. Например, «Сохрани березку»: дома бережно вписывались в таежный ландшафт, деревца по периметру обвязывались красными ленточками. Однако за всей этой, как выразился бы Ураков, «филологией, алы-балы» стоял жесткий порядок – нарушители наказывались нешуточным штрафом.
Глаз у Уракова был наметан, он разглядел в красавце Шальми незаурядную личность. И Пинхасов оказался в Улькане.
Дебют
Надо сказать, что и у хорошего поселка, и у поезда была нелегкая судьба. Дело в том, что СМП-571 в Юхту «посадили» рано (было это в начале ноября 1974 года), «голова» укладки была еще очень далеко, только начинали монтировать водопропускные трубы и мосты, и путейцам приходилось работать, в основном, по командировкам, в отдалении от поселка. Многие были недовольны и условиями работы, и заработками.
По свидетельству Анатолия Ушакова, собрание было бурным. Многие не понимали, откуда взялись эти трудности, и почему снижаются расценки. Объяснения не принимались. Эмоции зашкаливали, были выкрики с мест, не доходило только до хватания за грудки. Раздавались выкрики: «Тикать отсюда надо!» На что кто-то из ветеранов Хребтовой – Усть-Илимской ответил: «Пусть зайцы бегут!»
И тогда Улькан впервые услышал голос Шальми:
– Товарищи! Здесь собрались мужчины или кто? Почему ульканские женщины не жалуются на расценки? Значит, прав поэт, сказавший: «Лучшие мужчины – это женщины!»?
Собрание притихло.
– Здесь многие выступали, – продолжал Шурик. – Зарплата их не устраивает! Что ж, я откровенно скажу: вы не представляете, как мне нужны деньги. Мне нужны немалые деньги. Но я не побегу, не стану зайцем, потому что я комсомолец!
Ушел отец
Он не рисовался и не преувеличивал – деньги ему действительно были нужны позарез. Недавно я получил письмо от сестры Шурика Берты, она, как и вся его многочисленная родня, давно живет в Израиле. Она мне поведала, что в марте 1976 года он приезжал в Дербент по скорбному поводу – хоронить отца. Манахим Ханукаевич Пинхасов отважно воевал, заслужил боевые награды, в 1944 году был тяжело ранен, и война для него закончилась. До конца жизни честно и скромно работал.
После него осталась большая семья – вдова, четыре сына и две дочери. Отгоревав свое, Шальми снова собрался на БАМ. Его дружно отговаривали, но он был тверд. Погодите, говорил, заработаю большие деньги, вернусь, тебя, Берта, достойно выдам замуж, а Майе куплю хрустальные (!) туфельки.
Вернулся в Улькан. В бригаде Лиходела отношение к Шальми не изменилось. Ворчали – все молчит, за столом шапки не снимает. По ночам сидит с керосинкой, пишет. Хоть бы пел, что ли… Никого к себе не подпускал. Бригада даже собиралась объявить ему бойкот.
Оказывается, в бригаде не знали, что он недавно похоронил отца – настоящий мужчина сдержан и в радости, и в скорби. Пришлось Ушакову втайне от Шурика сообщить ребятам об этом скорбном событии. Заодно объяснить, что у татов свой траурный обычай, отсюда и шапка за столом, и молчание. А петь в это время вовсе непозволительно.
Любимец Улькана
Наконец, время траура кончилось, и Шурик вернулся в прежнее состояние, стал более общительным. А потом и песни вернулись.
Постепенно отношение к нему в бригаде стало меняться. От категоричного «Уберите от нас этого правдоискателя» до многозначительно поднятого пальца Миши Калашникова: «Вот такой парень!» В работе он себя не щадил.
А работа у ребят была тяжелая. Монтировали водопропускную трубу на 118-м километре. Аккордно-премиальный наряд должны закрыть на три с половиной тысячи. Бригада спешила, все нормы перекрывались. Шальми надеялся наконец-то вылезти из долгов.
Теперь приезда бригады Ивана Лиходеда в Улькан ждали. Ждали Шурика. Без него обойтись было трудно. Его песни под гитару звучали в клубе, на танцплощадке, на «Голубых огоньках» в столовой, на берегу Киренги. Его, как сейчас бы сказали, хитами были «Лебединая верность» и «История любви». Его песни переписывали с магнитофона на магнитофон, на концертах отбивали ладони…
Ушел Шурик
До конца Шурик раскрывался немногим, разве что Ушакову. Анатолий знал и понимал его. Вот его свидетельство: «Он жил в состоянии заботы о собственном я, очень болезненном и гордом». Эгоист? Да нет, просто человек с ранимой душой. Что-что, а ранить душу у нас умеют… Но в Улькане ему все-таки дышалось легче, чем где-либо.
Еще пара абзацев из дневника Анатолия Ушакова:
«Мы были с ним друзьями. Как я жалею, что не оставил велосипед на обочине и не вбежал в вагончик на 118-м километре! Нужно было … сказать ему то, что никогда не говорил:
– Ты мой друг.
Шальми оставалось жить три дня».
Его смерть – нелепая случайность. Можно, конечно, винить неизвестную контору, которая делала вагончики из материалов, которые горят как пропитанные бензином тряпки. Можно сколько угодно клясть слепой случай – почему Шурик не пошел вместе со всеми на танцы в Нию, почему он закурил и уснул? Можно, но чему это поможет и что вернет?
Парни застали на месте вагончика пепелище, в котором мало что можно было найти… Мама Динор увезла в Дербент небольшой ящик – все, что осталось от сына. Как горевали в Дербенте, можно только горько догадываться.
Бригада надолго замолчала. Обменивались только фразами, необходимыми для работы. Ходили почерневшие, не смотрели друг другу в глаза. Пустота… Может быть, недоумевали – как этот парень, не сразу и не вдруг прижившийся в бригаде, стал им всем необходимым?
Пришел из отпуска Калашников. Выслушал скорбный рассказ и молча ушел в лесную чащу. Его долго не было. Когда вернулся, сказал коротко: «Мужики, будем ставить памятник…» Человек дела, он разыскал брошенную плиту, нашел трактор, чтобы притащить ее на место трагедии. Договорился с бульдозеристом, чтобы разровнять площадку. Собственноручно написал на плите: Пинхасов Шальми Манахимович 1951–1975. Нарисовал лавровую ветку со сломленной верхушкой, а ниже: «Мы дойдем до Амура, Шурик» И подписи, семь фамилий: Лиходед, Калашников, Копас, Нуриев, Хыдыров, Башун, Букша. Тех, кто дал слово, что не покинет трассу, пока не сойдутся рельсы с запада и востока. Слово сдержали не все. Калашников объявил их дезертирами. Он, как уже известно, был максималистом.
Две звезды
Эту легенду оставил Шальми. Он назвал ее «Созвездие любви».
В небе, рядом с другими звездами, есть две звезды. Иногда они сближаются и снова расходятся. Люди называют их Созвездием Любви.
… Он был мечтателем. Любил выходить вечером к морю и смотреть на одинокую звезду.
Он верил в Счастье, Добро и Любовь. Верил и умел ждать.
Люди смеялись над ним и над его призрачными стихами, называя его чудаком. Он же знал, что только так и можно жить, и тогда душой поймешь чужую боль и чужую радость. Однажды, как всегда, Он пришел к морю. Был прохладный осенний вечер. Долго сидел на камне… А потом тихо спросил:
– Звездочка моя, отчего мне так тяжело жить? Я делаю людям добро, но чувствую, как я одинок и опустошен…
– Это потому, что ты не любил, – услышал Он нежный голос. Перед ним стояла девушка неземной красоты в платье из серебряных звезд.
– Кто ты? – спросил Он.
– Я твоя звезда. – И она подала ему руку.
Ночь пролетела как мгновение.
– Мне пора улетать – вздохнув, сказала Звезда. – Я не могу жить на земле, я здесь погасну…
– Тогда и я должен проститься с Землей! – воскликнул Он.
…Больше его никто не видел.
С тех пор в небе над морем каждый вечер загораются две звезды. Люди видят, что они медленно приближаются друг к другу.
Верю, что одна из этих звезд – это и есть Шальми. Гордый красавец с ранимой душой, которой было тесно на Земле.
P. S. Две недели назад я вернулся с БАМа. Добрались с товарищами до памятника Шурику. Нашли его не сразу – за прошедшие десятилетия он «погрузился» в тайгу. Плита, поставленная Мишей, стоит крепко. Буквы на ней стерлись, не все можно прочесть. Но с нами был бамовец, который 40 лет назад первым ступил на землю Улькана. Его зовут Владимир Онищенко. Володя обещал, что он вернется и придаст памятнику прежний вид. Ни секунды не сомневаюсь, что так и будет.