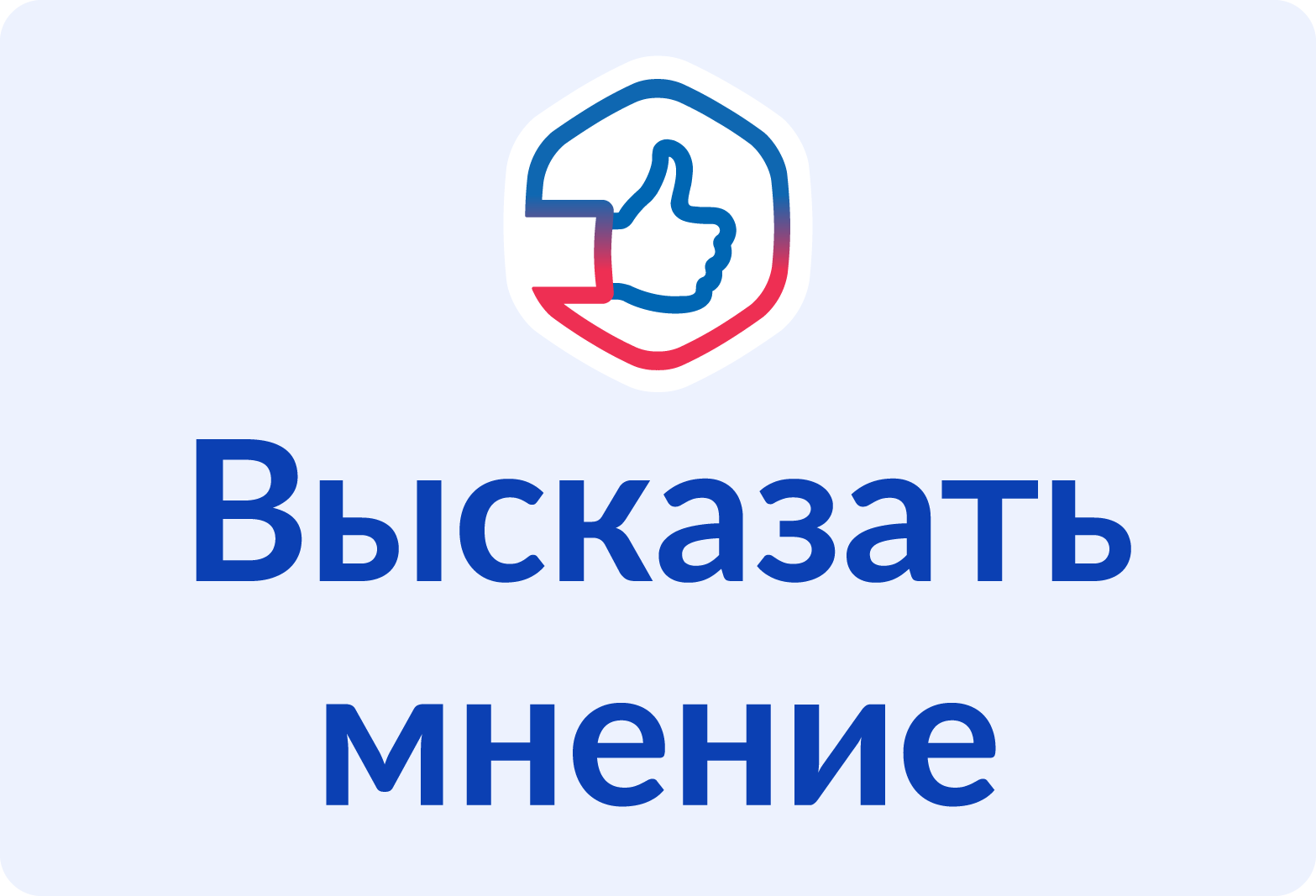Иван Вырыпаев: Если ты выбрал творчество, то больше не можешь быть как все
Иван Вырыпаев – один из самых неоднозначных драматургов современности. Все, что он говорит, – часто спорно, а порой фантастично, но при этом очень интересно. На встрече с Иваном Вырыпаевым вы можете испытать целую гамму чувств – от восхищения до раздражения, но скучно вам точно не будет. А еще за ним очень интересно наблюдать как за художником и как за человеком, ведь он находится в постоянном развитии.
Встреча с иркутянами началась с разговора об искусстве и творчестве.
– Творчество и искусство всегда только об одном – о создании вселенной, боге, тишине, красоте, любви и космосе. Тема может быть любой, хоть война в Сирии. Вспомним, как в древней Греции человек ходил в театр и смотрел страшные вещи, чтобы пережить катарсис – очищение. Американцы стали думать, что это достигалось с помощью хэппи-энда. Ничего подобного. Катарсис, наоборот, наступает, когда все погибли, и зритель говорит: «Фу, как я проплакался, как мне было всех жалко! А теперь мне так легко!». Это единственное, за что художник несет ответственность. Нужно так сконструировать произведение, чтобы внутри всегда была светлая дверь, через которую человек выходит с ощущением очищения.
– Как вы относитесь к цензуре?
– Мне кажется, что цензура в России – это реакция на травмирующее искусство. Я не говорю, что нужно нападать на художника, но, например, в Польше, где я сейчас живу, человек на сцене абсолютно безнаказан. В одном спектакле, где играет девятилетний мальчик, есть порносцены. Критик говорит: «Это же оправдано, почитайте текст», совершенно не понимая природу искусства. Когда ты смотришь на сцене порно, цель, которую ставит режиссер, не достигается. Ты сидишь, смущаешься, думаешь о чем угодно, только не об идее спектакля. Творчество должно раскрывать человека, а не закрывать и делать злым.
 – Вы часто осуждаете порнографию в театре, но говорят, однажды сами разделись на сцене?
– Вы часто осуждаете порнографию в театре, но говорят, однажды сами разделись на сцене?
– Был такой момент, я же не против голых тел. Запретных тем по сути нет, но нужно думать, какой эффект производит то, что ты делаешь. Целомудрие – не просто церковный догмат, это сохранение своей энергии, подчинение ее. Важно, что, когда я разделся для проекта моих друзей, я не играл другого человека. Вообще театр должен быть искусственным, чтобы говорить правду. Когда актер играет, тогда с ним подлинный контакт, а когда он притворяется, то ты ему не веришь.
– Говорят, вы стали толерантнее относиться к своим коллегам, с которыми раньше были не согласны?
– Раньше я критиковал их за то, что они не такие, как я. Но сейчас, когда мне что-то не нравится, не возникает раздражения и зависти. Сейчас мне это по-прежнему не близко, но появилось уважение. Кроме того, я осознал, что могу какие-то вещи не понимать или просто ошибаться.
– Как вы поддерживаете в себе творческую энергию?
– Мы с женой нашли свой театральный метод, он связан с йогой, которой я серьезно занимаюсь восемь лет. Еще у меня есть духовная практика, особая диета и воздержание от алкоголя. Если ты в театре этим не занимаешься, то погибнешь. Пример тому – все наши артисты, которые спиваются и умирают. Актеры все ходят по лезвию бритвы, ведь это очень опасная профессия. Когда говорят, что Высоцкий не был бы Высоцким, если бы не пил, я категорически не согласен, ведь талант не в этом. Если ты выбрал путь творческого человека, ты больше не можешь быть как все. Это как уйти в монастырь. А вообще, я вдруг осознал, что жизнь такая короткая, и нужно радоваться каждому моменту.
– Как вы анализируете произведение перед тем, как его ставить?
– Мой учитель Александр Михайлович Паламишев – ученик Марии Иосифовны Кнебель, которая в свою очередь училась у Станиславского, – создал систему действенного анализа пьесы. По ней произведение можно понять через вычисление событийного ряда. От себя, как драматург, я добавил еще и механизм пьес. Например, возьмем моих «Пьяных» – все герои говорят всякую чушь, не понимая, что несут, но мы, зрители, из нее вычленяем четкое послание. Когда мой друг, режиссер Виктор Рыжаков, ставит эту пьесу в МХТ, все герои у него почему-то в гриме, как клоуны, и этот механизм ломается. Социальный аспект произведения нельзя игнорировать.
– А как же быть с осовремениванием классики?
– А зачем ее осовременивать? Если я покупаю билеты на Чехова, то я хочу, чтобы мне именно его и показали. Я же не хочу, например, слушать Моцарта на синтезаторе. Есть пьеса Чехова, в которой устарел конфликт, – эпоха аристократии духа уже прошла, а люди остались и не знают, как им жить. Кроме того, исходное событие у автора во втором плане, поэтому они бесконечно пьют чай. Нудятина страшная! Как режиссеру с этим справиться? Он не знает и переносит место действия в современный мир. Но для меня как зрителя пьеса становится инфантильнее. Я думаю о том, почему он говорит: «Вы, сударь…», а сам в адидасах.
– Меняет ли культура мир и человека?
– Этот вопрос предполагает, что есть что-то вне культуры. На самом деле есть только культура, именно в нее оформилось человеческое сознание после большого взрыва. Она во всем: как мы едим, одеваемся, говорим, взаимодействуем с людьми. Мир меняется, когда ты осознаешь, что есть я – личность, которая должна на него воздействовать. Но если этой личности нет? А я уверен, что это одна энергия, которая сложилась в миллиарды разных форм. Мы все – одно целое, проявившееся в разных формах благодаря генам и воспитанию. Тогда куда меняться этому миру, если в нем есть вся полнота? Изменить можно только качество жизни.
– Недавно я понял, что у меня нет цели. Я вижу свою жену и дочку, просто их люблю и понимаю, что счастлив. От этого у меня появились внутренняя свобода и дисциплина. На самом деле, лет 15 я пытался поменять мир, но мне не удалось, и я решил, может быть, я оставлю мир в покое?
– Как вы воспитываете своих детей?
– У меня их трое. Первого – сына Гену – я не воспитывал, не было времени, занимался собой. Но, к счастью, он вырос хорошим человеком. Он всегда рядом, и мы с ним друзья. Со вторым сыном я мало вижусь, потому что у него другая семья, но он тоже хороший парень. А дочке, которой сейчас пять лет, мы с женой с самого детства посвящаем очень много времени. Я вообще для себя решил, что смысл моей жизни – воспитание этого ребенка. Мы делаем это путем любви и объяснения, стараемся быть строгими, но не злыми, ведь если ты запрещаешь, но не объясняешь, то запрет уходит в комплекс. Однако я не согласен с европейской тенденцией, когда ребенку все дозволено. Воспитание, на мой взгляд, это и запреты.
– Будете ли вы в ближайшее время снимать кино?
– Наверное, нет, ведь я про кино ничего не понимаю, и то, что я снял, кинематографом не назову. Это авторские высказывания на волнующие меня темы. Я даже сам кино перестал смотреть, может, период такой.
– Сейчас снимается фильм «Иркутск Ивана Вырыпаева». Каково вам быть героем фильма о себе?
– На самом деле мы с женой очень закрытые люди. Но ребята меня убедили, что это скорее фильм не обо мне, а об Иркутске и герое, который жил в этом городе и потом что-то написал.
– У вас есть разделение творчества на то, что ради денег и ради себя?
– Нет, и я не думаю, что стоит это делать. Хотя жена сейчас снялась в рекламе банка. Она сначала отказалась, но потом мы подумали и решили, что гонорар поможет нам исполнить мечту – открыть продюсерскую компанию. На самом деле я бы с удовольствием работал меньше, например, не ставил спектакли. Хотя мне повезло, я люблю свою работу.
– Куда бы вы потратили освободившееся время?
– Моя мечта жить в Варшаве только летом, а все остальное время – на Шри-Ланке или в Перу. Я бы купил себе дом, нанял дочке учителей. Она бы росла на соках, в настоящем контакте с природой и местными детьми.
– Важно ли признание для творческого человека?
– Конечно! А как мне иначе проверить, хороший я драматург или плохой? Когда мне приходят деньги от постановок, я думаю: «Ну вот, наверное, «Пьяные» – хорошая пьеса». Мне недавно заказали блокбастер про инопланетян, в итоге ни одна студия не хочет снимать. Говорят, что это дорого и очень заумно. Из чего я делаю вывод, что я не очень коммерческий сценарист.
– Европейская система театра более продвинутая, чем наша?
– Мне она не близка. В основном это театр, который оперирует либо к низменным эмоциям, либо к рациональному мышлению. Мне кажется, то, что делал в Москве Евгений Гришковец, некоторые спектакли Брусникина или Кудряшова – такая ценность, что никакой Остермаейр мне не годится. В Польский театр я ходить вообще не могу, мне кажется, что это так нереально и надуманно. Но это мое личное мнение. Нам нужно возрождать нашу режиссерскую школу, у нас же золото было под ногами, куда все это делось? А теперь только люди, которые высказываются, и мало тех, кто делает продукт.
– Смотрите ли вы спектакли по своим пьесам, и как относитесь к тем режиссерам, которые вас ставят?
– Нет, я не смотрю, но я им благодарен. Правда, почти все спектакли не имеют никакого отношения к тому, что я написал. Пока как драматург я в театре не реализован, у меня нет своего режиссера, кроме меня самого.
– А вы не планируете поставить свою пьесу в Иркутске?
– Я бы с удовольствием сделал это в театре «Новая драма». Но у меня есть одно обстоятельство – семья, с которой я не хочу расставаться на полтора месяца. Но с другой стороны, моя жена любит Россию и Байкал. И я готов поставить без гонорара, но мне нужен спонсор, чтобы репетироваться на какой-то турбазе.
Ребята из «Новой драмы» вообще молодцы, они сделали то, что у меня не получилось. Я ведь с этого начинал в Иркутске, поэтому хочу помочь им всеми силами. Ведь драма и должна быть новой, я сам очень люблю классику, и она нам тоже нужна. Но театр без современного языка, конфликта и тем не может существовать.
справка
Иван Вырыпаев родился 3 августа 1974 года в Иркутске. Российский драматург, актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.