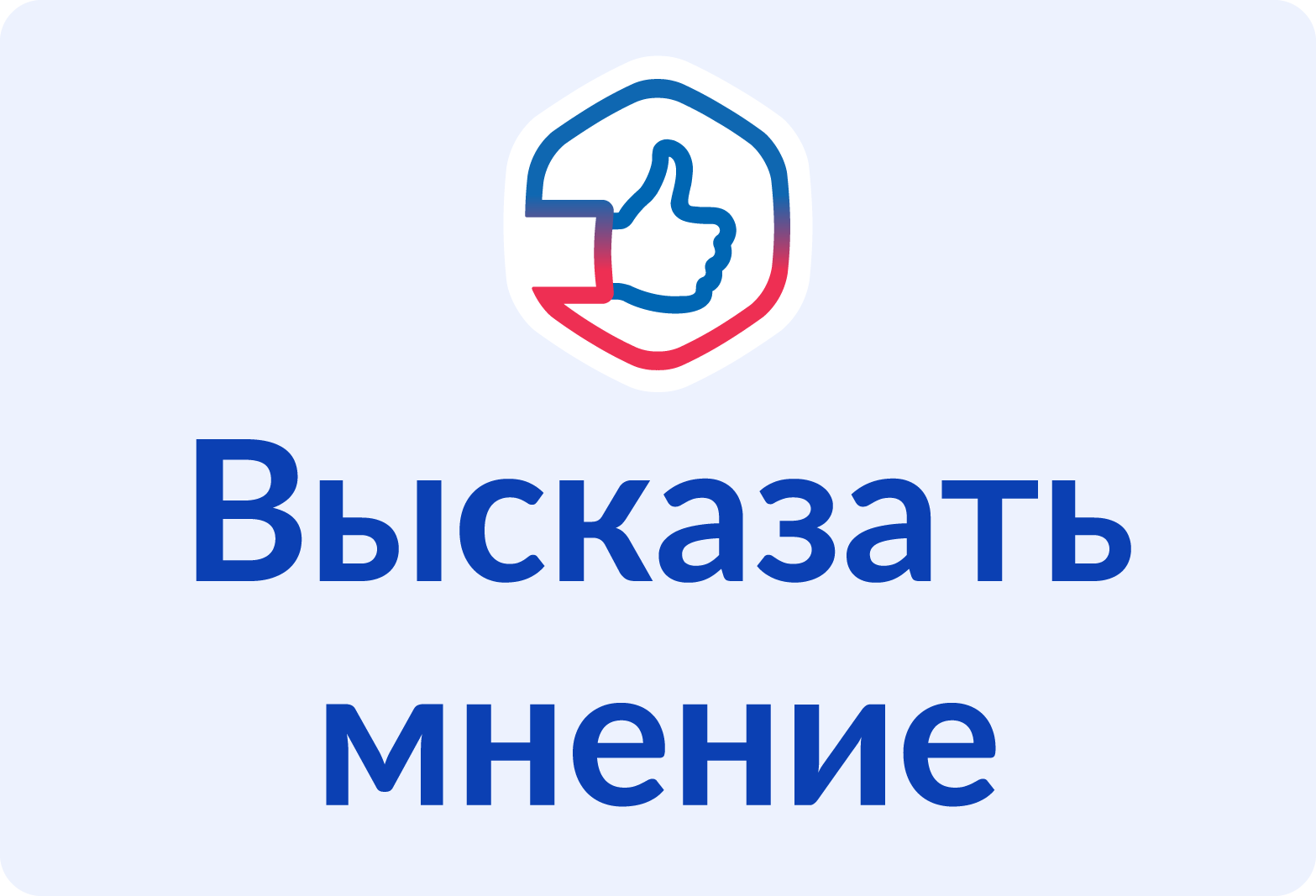Вода пахнет вечностью
Старый особняк, в котором размещалась иркутская писательская организация, дышал на ладан. Но все равно каждую литературную пятницу он был переполнен. Сюда для обсуждения очередной публикации или книги приходили преподаватели вузов, студенты, вернее, пробующие себя в поэзии студентки, актеры, журналисты, режиссеры и иные местные знаменитости, залетающие на огонек.
Впервые порог дома литераторов я переступил поздней осенью семидесятого года. Принес свой первый рассказ «Санзадание». Встретила меня секретарша Союза писателей Неля Суханова и попросила оставить рукопись на подоконнике.
– Я хотел бы, чтоб ее прочитал Геннадий Машкин, – попросил я.
К тому времени автор знаменитой повести, переведенной на многие языки, – «Синее море, белый пароход», был единственный писатель, которого я знал. С ним мы познакомились, когда он выступал у нас в летном отряде.
Через некоторое время я позвонил Сухановой, и она сообщила, что Машкин хотел бы встретиться со мной.
Прямо из аэропорта, в летной форме, я помчался в писательский особняк. Была очередная литературная пятница, и в особняке было многолюдно. Я увидел всех сразу: тех, кого постоянно показывали по местному телевидению и о ком писали в газетах. В центре внимания был руководитель писательской организации Марк Сергеев, рядом с ним стояли: Сергей Иоффе, Гаврила Кунгуров, Валентина Марина, Надежда Тендитник, профессор Василий Трушкин. Чуть поодаль, у стены, в черном костюме, ослепительно белой рубашке и в галстуке стоял Владимир Козловский. Увидеть его было для меня приятной неожиданностью: его романом про летчиков «Верность» я зачитывался в детстве. Здесь же толпились молодые писатели из «Иркутской стенки». Вячеслав Шугаев, который на подобные вечера, как и Козловский, ходил обязательно в белой рубашке, галстуке. Рядом с Шугаевым с сигаретой в руке стояла красавица-жена Эльвира, работающая в газете «Советская молодежь», и что-то говорила Валентину Распутину. Я уже знал, что она была дочерью главного редактора «Забайкальского рабочего».
Кроме основного помещения, небольшого, но уютного зала и кабинета ответственного секретаря, особняк имел еще полуподвал. Там стояли два стола, один теннисный, другой бильярдный, который был приспособлен для импровизированных фуршетов. «На дно», так шутя называли писатели свой подвал, спускались те, кто был помоложе и покрепче. Бывали случаи, что позже не все могли подняться обратно наверх. Вот там-то я и увидел Геннадия Машкина, который наблюдал, как довольно ловко и азартно хлещет по теннисному шарику Александр Вампилов. Ему безуспешно пытался противостоять его земляк, уроженец села Бабагай Евгений Суворов, которого Вампилов почему-то то и дело называл Печальным зятем. Позже, уже от Суворова, я узнал, что такое прозвище Евгению дал тесть, который считал, что писатели – народ денежный, но его дочери досталась сама посредственность; непробивной, печальный зять. В случае с Суворовым все выходило как раз наоборот: да, возможно, непробивной, но, безусловно, один из самых талантливых писателей, входящих в «Иркутскую стенку». Чаще всего будущие классики жили без гроша в кармане.
Здесь же, за бильярдным столом, расположились совсем молодые поэты: Василий Козлов, Анатолий Горбунов и Владимир Смирнов, который вскоре станет Скифом. Машкин узнал меня, пригласил к импровизированной трапезе. Я глянул на протянутый мне стакан, достал из портфеля бутылку болгарской «Плиски» и выставил на стол, чем вызвал одобрительный взгляд еще недавнего геолога, привыкшего в своей таежной жизни к походным застольям.
К тому времени Суворов, в отличие от своего знаменитого однофамильца, капитулировал перед Вампиловым, и я решил встать на его место.
– Летчики – моя слабость! – улыбнулся Вампилов. – Давай, давай, покажи, как на небесах раки зимуют.
Почему раки и почему на небесах, я так и не понял. Саня подкинул белый шарик над столом. Играл Вампилов азартно, переживал за каждое проигранное очко. Отбивая целлулоидный шарик, я почему-то вспомнил статью в «Молодежке», где описывался товарищеский матч между писателями и журналистами, который проходил на стадионе «Труд». В конечном счете писатели крупно проиграли. Тогда Вампилов после игры сказал: «Соперники бегали по полю, как молодые олени, мы их догнать не могли». Я быстро понял, что Саша, как и многие, встал за теннисный стол, имея за плечами лишь дворовую выучку. Тут азарт был ему слабым помощником. Скорее наоборот, мешал сосредоточиться: он то и дело ошибался при приеме шарика. Я заметил, что все столпились вокруг нашего стола и начали болеть за Вампилова. Но он, проиграв две партии, куда-то заторопился. Машкин налил ему стакан болгарского напитка.
– Требую сатисфакции, – глянув на меня, сказал Вампилов. – Но не сегодня. Тороплюсь.
– Саня, Валера написал повесть, – представил меня Машкин. – Может, посмотришь?
– Ну, если бы пьесу! – протянул Вампилов. – Тогда бы я взял. А так отдай Славе Шугаеву. Он у нас как раз занимается молодыми. – И, кивнув на теннисный стол, спросил:
– Где научился?
– В летном, – ответил я.
– Хорошо учат.
Он протянул руку:
– Значит, пьесы не пишешь?
– Пока нет.
– Ну, тогда пока.
Саня улыбнулся и по лестнице начал подниматься в «свет».
От встречи с Вампиловым осталось доброе, хорошее чувство: и похвалил, и признал меня, пока что как теннисиста, оставил себе надежду одолеть меня в следующий раз. Он напомнил мне позднего Распутина: тот не сразу, но все же мог признать, что кто-то и что-то может делать быстрее и лучше, чем он. Особенно это проявлялось, когда мы ездили с ним по грибы и ягоды. Здесь у Валентина проявлялся весь его уже подзабытый на городских улицах деревенский азарт: если собирать, то непременно чтобы в котелке, когда мы возвращались к табору, у него было больше, чем у других. Распутин брал ягоду руками, а не совком, аккуратно и чисто, без шелухи и листьев. И очень огорчался, когда его стало подводить зрение.
– Хоть убей, не вижу! А на ощупь попадаются одни поганки, – хмуро говорил он, стараясь не показывать свое ведро.
Из писательского особняка я вышел, когда было уже темно. Под ногами похрустывал снег. Где-то рядом, за глухими подворотнями, должно быть, оставшимися еще от иркутских купцов, лаяли собаки, неподалеку скрежетал железом по рельсам полночный трамвай. Почему-то на память пришли строчки, которые я прочел в Санином рассказе «Сумочка к ребру».
Из подворотни выбрел пес лохматый
И вдруг завоил. Словно не к добру
Подкрадывался сумрак бородатый,
Пристегивая сумочку к ребру.
Обычная в то время картина для провинциального Иркутска. Дальше с Вампиловым мы виделись коротко, однажды в аэропорту – он улетал в Москву. По вокзалу он шел в расстегнутом пальто, белой рубашке, на фоне которой бросались в глаза его смолянисто-черные кудрявые волосы.
В следующий раз встретились уже в конце мая. В писательском особняке только что состоялось обсуждение его новой пьесы «Утиная охота». Писатели вывалили на улицу, еще разгоряченные обсуждением. Из коротких реплик я понял – пьесу завалили. И что особенно возмутило «Иркутскую стенку», что Саню не поддержал Вячеслав Шугаев.
– Ревнив, ревнив Слава! – гудел Саша Сокольников.
Вампилов молчал. Тут же решили идти на берег Ангары в «Ветерок». Набралось одиннадцать человек, целая футбольная команда. В стеклянной кафешке на бульваре Гагарина, прямо с видом на текущую рядом Ангару, заказали вина и шашлыки. Начали говорить про только что напечатанный в журнале «Наш современник» рассказ Валентина Распутина «Вверх и вниз по течению». Писатель-фронтовик Дмитрий Сергеев с серьезным сухим лицом сказал, что Валя пишет трудно. Тогда считалось, кто пишет трудно, тот пишет хорошо. Все разом замолчали, примеряя сказанное на себя. И тут вскочил поэт Петр Реутский, которого Геннадий Машкин шутя почему-то называл «сухеньким бандитом», и сказал, что сейчас прочтет поэму «Черная сотня» о казаках, которые, прорвав красные заслоны, «сотней высохших ртов, упрямо идут на Ростов». Подняв стакан, он театрально объявил, что стихи он посвящает Валентину Распутину. В ту пору Петр Иванович был, пожалуй, самым знаменитым поэтом в Иркутске, на его стихи даже сочинялись песни. Мне особенно нравилось его стихотворение «Волкодав» и солдатское «Про форму номер двадцать, проверку наших тел на чистоту».
Конечно, каждый из нас по жизни проходил проверку на чистоту, на порядочность, на умение встать за други своя. Сегодня, оглядываясь на то далекое время, я прихожу к одному простому для себя выводу. Все писательские посиделки были маленькими, если хотите, театральными сценками, где каждому персонажу была отведена определенная роль. Попал за стол – готовь свою реплику. Здесь невидимая постороннему глазу иерархия творческой компании соблюдалась строго. Твои амбиции учитывались, но желание сразу же встать в строй впередиидущего пресекались на корню. Здесь ценилось одно: что ты на данный момент собой представляешь, что ты к этому времени сделал в литературе.
Как-то Слава Филиппов, став секретарем иркутского отделения Союза писателей, шутя предложил: всем писателям присвоить, согласно занимаемому ранжиру, армейские звания, выдать форму и погоны, кому генеральские, кому лейтенантские, а кому за усердие – ефрейторскую лычку.
Его тут же осадили: «Ишь чего придумал, да у писателей нет вторых, все первые!» Позже, когда в Иркутск приехал Виктор Петрович Астафьев, «Черную сотню» Петр Иванович Реутский читал с посвящением уже знаменитому гостю.
Что ж, в театре все должно быть учтено.
Впрочем, тот день, начавшийся с обсуждения «Утиной охоты», выдался на славу: теплый, тихий, солнечный. В кафе мы сидели одни, нам никто не мешал. И тогда Машкин предложил скинуться еще.
Я достал трешку и положил в общую кучу. Саня тут же вернул мне ее обратно.
– У нас так не полагается. Сам не пьешь, а деньги переводишь.
– Мне сегодня лететь. Приходится быть сухим.
– У меня есть к тебе разговор, – вдруг сказал он. – Выйдем на бережок.
Мы вышли из кафе, спустились к Ангаре.
– Мне Гена Машкин сказал, что ты летаешь в Карам, – прищурившись, не то спросил, не то констатировал Вампилов.
– У нас рейс до Казачинска, – подтвердил я. – А по пути садимся в Караме.
– Мы здесь с Машкиным надумали сплавиться по Киренге. Не поможешь нам с билетами? А если есть время и желание, то присоединяйся.
– Какой вопрос! – ошеломленный сделанным мне предложением, воскликнул я. – Договорюсь с ребятами и полетим!
– Только чтоб все было официально, – предупредил Вампилов.
– Все сделаем, как надо, – успокоил я.
И вдруг до меня дошло, что разговор про билеты, про сплав по далекой реке был для него не главным. Там, в кафе, остались сидеть те, с кем он давно дружил, не один раз читал им свои пьесы, спорил, выпивал, ездил на Байкал и в другие места. То есть те, мнением которых он дорожил. И сегодня все шло, как было заведено ранее. Но он решил выйти и поговорить со мной, человеком для него новым, практически неизвестным. Я не думаю, что его заинтересовала моя летная форма. В «Старшем сыне» у Вампилова есть герой-курсант, будущий летчик. По авторской задумке это человек слова, который никогда и никуда не опаздывает. Все у него просчитано до конца жизни. Для Вампилова же это человек-зануда, правильность которого скорее отталкивает, чем привлекает. Как автор Вампилов ему явно не симпатизировал. Любимая в народе курсантская форма его героя не спасает. И вот на тебе: среди писателей появился человек в летной форме. Возможно, Вампилов решил проверить, кто я и с чем пришел к писателям? Но едва начался наш разговор, я понял: своего героя он мог нарядить в любую одежду, это не больше чем литературный прием. Интуитивно я почувствовал в Вампилове человека, который видит мир по-иному; я бы сказал, с другой высоты и с другой скоростью. И быстро сообразил, что ему многого говорить и объяснять не надо, он шел ко мне, как к равному, тогда он мог себе это позволить и уже догадывался, что и я иду к нему. Нет, расстояние между нами измерялось не метрами, и не шагами. Все, что будет между нами, еще предполагалось. Но в тот момент никто из нас не знал, что будет с нами завтра.
– Ну, как, пишется?
– Да вот, читают мою повесть, одни советуют переделать, другие бросить это дело, – отшутился я.
– Ты слушай, но делай, как подсказывает тебе душа. Слушай самого себя. Часто бывает так: они говорят тебе, а думают о себе.
– Не все, – возразил я. – Вот Женя Суворов недавно читал свой рассказ «Мне сказали цыгане».
Вампилов посмотрел куда-то вверх и, засмеявшись, продолжил:
– Вот Жене Суворову я верю. Он тонко чувствует слово, прекрасный стилист. И, пожалуй, самый порядочный из всей нашей братвы. А какой у него прекрасный рассказ «Этажом выше»! Читал?
Я согласно кивнул головой.
– Но есть у него особенность, – вновь улыбнулся Вампилов. – Напишет, напечатает, а потом год ходит и рассказывает, как он писал. В нашем деле не надо останавливаться. Работай, работай, другого не дано. Порода отмоется, и, как говорит Гена Машкин, золотники останутся. Старина Шекспир верно заметил:
Весь мир – театр, а люди в нем – актеры!
Кто плут, кто шут, а кто простак, мудрец или герой.
А потому, а потому оставьте ваши споры.
Ищите в жизни свою роль, лепите образ свой.
Помолчав немного, Саня добавил:
– Мы просто не задумываемся и не замечаем, что везде люди играют свою роль.
– Верно, – согласился я. – Особенно когда у нас идут разборы полетов. Каждый видит самого себя в том или ином эпизоде. Вот недавно был у меня случай. При заходе на посадку отказал двигатель. Ситуация неожиданная и паршивая. Едва справились. Когда начали разбирать полет, кто и как действовал в этой непредвиденной ситуации, начались неожиданности. Каждый потянул одеяльце в свою сторону. А ведь мы экипаж!
– Ты такие вещи записывай. Сгодится, – посоветовал Вампилов. – Жизнь – лучший помощник. Она подсказывает такие сюжеты, которые не придумаешь. Как сладко пахнет Ангара, – вдруг тихо сказал он, посмотрев в сторону текущей мимо нас реки.
– Она пахнет только что сорванной морковной ботвой, – заметил я.
– Вода пахнет вечностью, – поправил меня Вампилов. – А наша жизнь, как и вода, протекает быстро.
Сверху от кафе к нам подошел Машкин, за ним спустился Распутин, и мы, слившись с другими, толпой двинулись мимо бетонного шпиля в сторону трамвайной остановки.
Ныне на месте бетонного шпиля, которого Саня с присущей ему иронией называл «мечтой импотента», как и в царские времена, стоит памятник Александру III. Со временем все вернулось на свое место. Возле драматического театра к нам подошли девушки. Через минуту слышу, как Саша Сокольников крикнул:
– Ребята, смотрите, Сашу Вампилова уводят.
– Ну, это не насовсем, – засмеялся Машкин.
Больше я Саню живым не видел. Мне запомнился тот день, когда Машкин, встретив меня у стадиона «Труд», сообщил, что Сани больше нет. Помню заплаканного Распутина, потемневшего от горя Суворова, осунувшегося Машкина. Полет на Киренгу так и не состоялся.