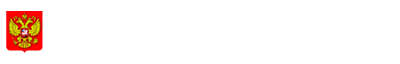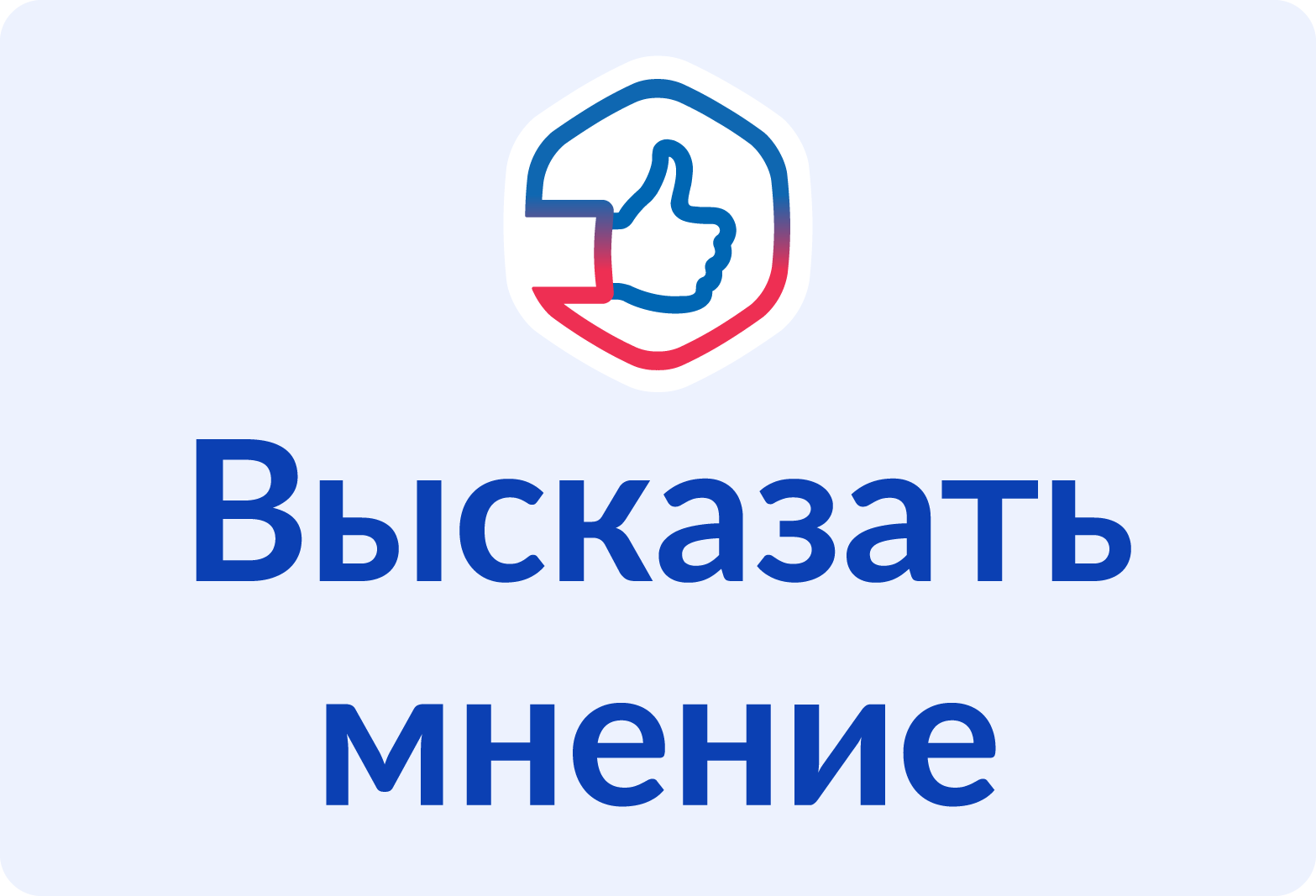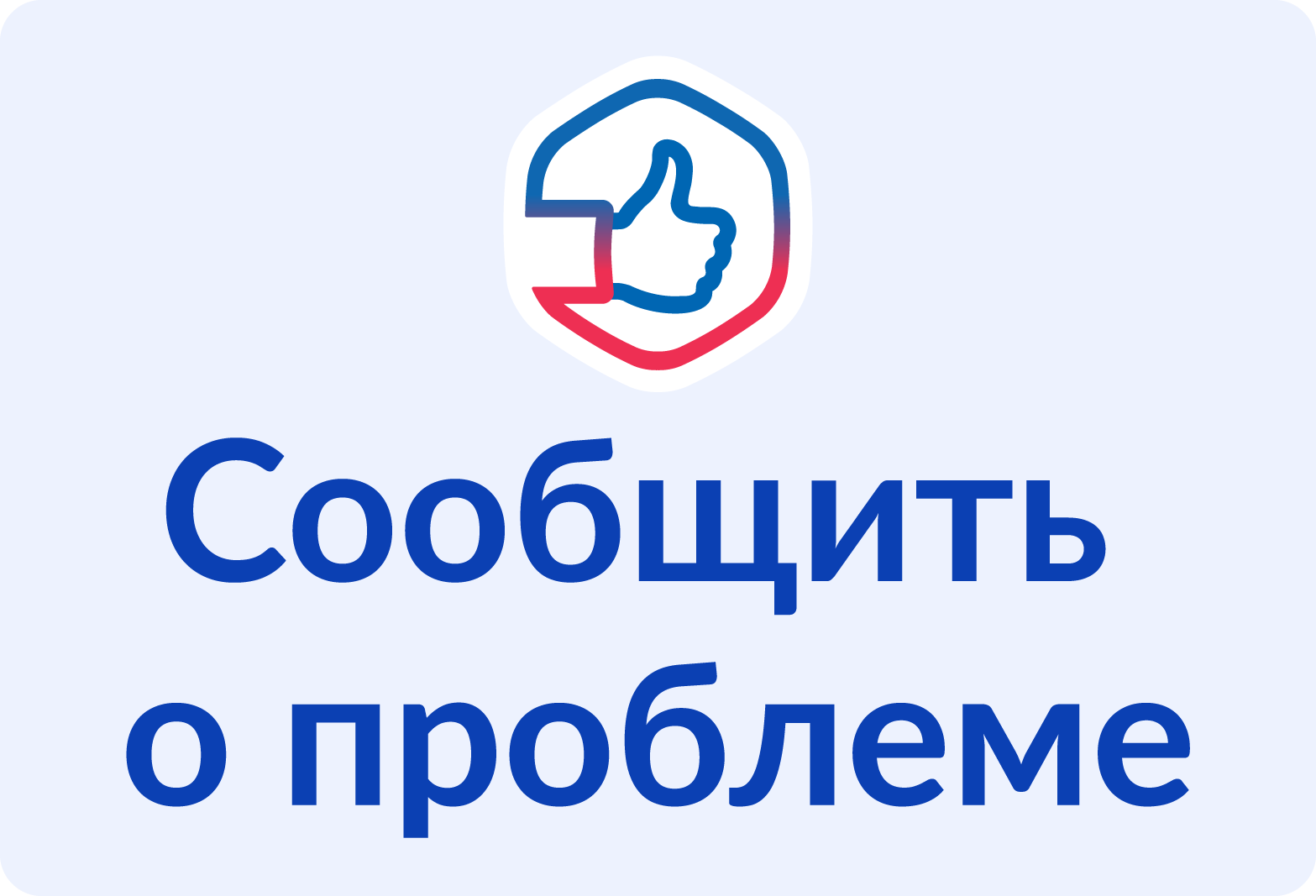Краевед Галина Макогон
Среди ее открытий - голендры, одна из визитных карточек Заларинского района
Победителем в номинации «Герой моей малой родины» конкурса «Гордость земли Иркутской» стала основатель Заларинского краеведческого музея Галина Николаевна Макогон. Эта удивительная женщина обладает энциклопедическими знаниями и феноменальной памятью. Просто слушая ее, можно запросто написать исторический роман, она и сама способна выдать на-гора книгу, и не одну – главное, задать тему и жанр. Мне кажется, Галина Николаевна знает все, что касается Заларинского района, и уж точно больше, чем кто-либо другой.
Отвечая на поздравления по случаю победы в конкурсе, Галина Николаевна написала в соцсетях пост, в котором подведен итог многолетней работы, поэтому позволю себе процитировать: «… выражаю благодарность всем сподвижникам исследований истории родной земли, родных сел и деревень, своих семей, всем, кто всегда поддерживал меня и отдал свои голоса в мою поддержку в конкурсе. Это поддержка истории 2800 фамилий района, 1800 топонимов нашей земли, 401 населенного пункта, 10000 фамилий фронтовиков Великой Отечественной войны, истории аборигенов, чалдонов, национальностей, землячеств и других тематических сообществ района».
Все началось с музейной комнаты
В этом году Заларинский краеведческий музей отмечает юбилей – 30 лет со дня основания. Интересно, что началось все с музейной комнаты в школе № 1, у истоков которой стояли молодой педагог Галина Макогон и группа трудных подростков-школьников. В 1981 году дипломированный специалист педагогического института вернулась на малую родину, а коллеги родной школы, возможно, от безысходности отдали новичку трудный класс. Достаточно сказать, что несколько учащихся стояли на учете в детской комнате милиции. Вряд ли у вчерашней дипломницы института был готовый рецепт по исправлению ситуации. В воспитательных целях, а скорее по наитию, классный руководитель начала водить учащихся во всевозможные экскурсии и походы, через которые нашла подход к трудным подросткам. Практически из каждого такого похода дети приносили в школу какой-нибудь старинный предмет, в итоге стало образовываться нечто вроде краеведческой экспозиции. Она в итоге и послужила отправной точкой школьного музея. Довольно долго Галина Николаевна разрывалась между педагогикой и краеведением, а потом сделала выбор в пользу истории родной земли. Изучение малой родины стало в итоге не только основной профессией, но и хобби, в какой-то степени даже религией. Чем иначе объяснить невероятную скрупулезность и последовательность, фанатичную преданность своему делу?
В 1994 году Галина Николаевна вышла с инициативой открыть в Заларях краеведческий музей, администрация района ее поддержала. Малая родина оказалась с богатым прошлым, которое до поры до времени никто не ворошил.

Прошлой осенью обширная кладовая истории района переехала в отреставрированное здание.
Одна из экспозиций обновленного музея называется «Столыпинский вагон» и размещена внутри макета старинного железнодорожного вагона. По информации краеведа, в Заларинском районе проживают потомки переселенцев из 28 губерний России.
«Вот где история так история!»
Более подробно стоит остановиться на голендрах, с которыми прочно ассоциируются заларинские земли.
В начале прошлого века выходцы с Волынской губернии основали села Пихтинск, Новыны, (Средний Пихтинск), Дагник и Тулусине. Через 80 с лишним лет совершенно случайно огромный культурный, исторический пласт был открыт. Самое непосредственное отношение к этому событию имеет как раз Галина Николаевна.

– В 1994 году мы только-только открылись, определялись с рабочими местами, начинали о себе заявлять, – вспоминает краевед Галина Николаевна. – К нам приехал дедушка Густав Зигмундович Кунц и с порога заявил: «Девчонки, если вы хотите заниматься музеем, вам надо съездить в Пихтинск. Вот где история так история!» И вскоре мы вспомнили его слова. Проходила очередная инвентаризация, мы с коллегами помогали сотрудникам Центра сохранения исторического наследия. Проехали много деревень района, а когда очередь дошла до Пихтинска, психологически и физически я лично уже иссякла настолько, что не было сил и желания выходить из автобуса. И вдруг мои иркутские коллеги говорят: «Галина Николаевна, хватит сидеть в автобусе – выходите! Вот тут интересно! Этнография просто сумасшедшая!» И когда пошли от дома к дому, начали общаться с одним жителем, другим, стали осознавать – произошло открытие этнографической жемчужины не только Заларинского района, Иркутской области, а наверное, всей России.
Этнографический ребус
С этнографической точки зрения Пихтинск, Средний Пихтинск и Дагник представляли этакий ребус. Еще бы, жители исповедуют лютеранство, молитвы читают по польским ксенжкам, говорят на смеси польского, украинского, русского языков, носят немецкие фамилии Людвиг, Кунц, Гильдебрант, но преимущественно польские имена, особенно женщины – Альвина, Юзефина, Катаржина. Себя жители сел называют голендрами.
Возникает резонный вопрос: почему, собственно, открытие произошло спустя восемь десятилетий после того, как голендры освоили таежный сибирский уголок? Об этом по порядку.
Леса в Сибири – хоть удавись, воды – хоть утопись
По информации Галины Макогон, первая группа голендров приехала в Зиму в 1907 году, здесь были на заработках, потом вышли на Залари. Здесь выходцы с Волыни нанялись строить церковь Престола святого Петра в Тырети, где встретились с крестьянским начальником переселенческого Око-Тагнинского подрайона Адамом Райнертом.

Первоначально Адам Адамович определил голендров жить в деревне Старометелкино. В 1909 году в район приехали 11 семей из деревни Новыны Гущанской волости Владимир-Волынской губернии.
В Сибири голендров в первую очередь поразили и привлекли необъятные просторы. Призывая родственников последовать их примеру, первые переселенцы в качестве главного аргумента писали своим: «Леса в Сибири – хоть удавись, воды – хоть утопись».
В итоге выбрали берег реки Тагны, которая переселенцам напомнила Буг.

Многие на своей исторической родине занимались плетением различной бытовой утвари из лозы – от всевозможных корзин для хранения продуктов до мебели и колыбелей для младенцев. И, конечно, заросли краснотала по берегам Тагны легли на душу.
В Сибирь голендры везли все, что могли физически унести – от ложки-поварешки до плугов и дубовых столярных станков. Такой хранился, в частности, в доме Михаила Ивановича Гильдебранта.
– Долгие годы я пытался найти ответ на вопрос: «Почему рискнули, почему предки поехали в неизвестную Сибирь?» – говорит Петр Мартынович Людвиг. – Моему отцу на момент переселения было всего шесть лет, но даже в этом возрасте он понимал, насколько здесь было свободнее. Например, он рассказывал, что когда селились в Дагнике, то дома намеренно ставили друг от друга на расстоянии 300–500 метров, не меньше, потому что дома в тесноте нажились, а тут свобода!

Пихтинские голендры
Сохранились фамилии четырех первопроходцев, которые в 1908 году добрались до этих мест, – Гимборг, Бытов, Кунц и Гильдебрант. Возле клуба им установлен памятник. Заработав денег, они уехали на родину и вернулись уже семьями.
В 1911 году образовался Пихтинск, который переселенцы называли на свой лад Замустэче. Получается, что голендры привезли с далекого Буга не только сельхозинвентарь, плотницкий инструмент, но и названия своих деревень. В 1912 году в Заларинский район прибыла вторая партия переселенцев, которая осела в болотистом месте, назвав деревню Дагник. От этой группы вскоре отделился Иван Кунц, забивший первый кол на хуторе Тулусине.
Первую пару молодоженов из Пихтинска пастор Иркутской лютеранской церкви обвенчал 24 января 1916 года.
Сохранилось письмо иркутского лютеранского пастора Вольдемара Сиббуля начальнику переселенческой конторы в Тырети Адаму Адамовичу Райнерту:
«Милостивый государь. Многоуважаемый Адам Адамович. По прибытии домой считаю своим приятным долгом высказать Вам свою глубокую благодарность за Вашу карточку, благодаря которой мне беспрепятственно предоставлялись лошади для посещения Пихтинского участка.
Познакомившись на месте с бытом переселенцев-лютеран, позволю себе поделиться своим впечатлением. Народ трудолюбивый, молодой, благочестивый и знающий рациональную обработку земли, но бедный. Я думаю, что они составляют элемент вполне полезный для нашей губернии. В настоящее время они насчитывают до 200 душ. Весною предвидится прибытие новой партии – около 100 человек из той же Волынской губернии.
На прежней родине их звали официально cвиябужскими, нейбровскими и нейдорфскими голендрами – имя, с которым они свыклись и которое им нравится. Поэтому я просил бы присвоить занимаемой ими новой родине имя – деревня Пихтинские Голендры».
Осуждены без приговора, призваны без срока
В период коллективизации здесь существовали колхозы «Таежный», имени Мичурина, имени Кагановича.
Голендры считались большими тружениками и крепкими хозяйственниками, однако налоги, которыми обложили личные хозяйства крестьян, оказались еще крепче.
Тяжелые 30-е годы хорошо помнит жительница Пихтинска Альвина Адольфовна Зелент.

– Мы держали корову, но с этой коровы надо было сдать государству 10 килограммов топленого масла. Там ложку облизать мама не давала – все собирали тщательно. Десять куриц держали, с каждой курицы сколько-то яиц, я не помню, надо было сдать. Корова отелилась – мясо в поставку надо было сдать. Если какого там поросеночка кормили, и то скрыто. Потому что если держишь поросенка – надо было шкуру сдать.
Во время войны пихтинцев на фронт не брали, потому что фамилии Кунц, Людвиг, Гильдебрант считались немецкими. До марта 1942 года жителей вообще не трогали, а потом прошла сплошная мобилизация – мужчин, женщин, девушек, парней забрали в Трудовую армию, определив для них три фронта работ – заготовку леса, угольные шахты, строительство железнодорожного полотна.
– Папу увезли в 42-м, но маму почему-то оставили, хотя могли отправить на работу, мне, самой младшей в семье, уже три года исполнилось, – вспоминает Альвина Адольфовна. – Забирали всех подряд, парней и девчонок с 18 лет. В деревнях оставались такие, что работать не могли, но на них все, весь колхоз держался. Страшно было, но жили кто как мог. Сначала папа работал на станции Решеты Красноярского края, мама передачи ему возила. А потом ее саму забрали на заготовку древесины, где она трагически погибла – ударило лесиной. Папу даже на похороны не пустили.
Те, кто находился в рядах трудармии, до конца не понимали, в каком они статусе – осужденных без приговора, призванных без срока. Некоторые пихтинцы работали в лагерях вместе с военнопленными.
– С Решет папу, его младшего брата дядю Ваню, соседа Михаила отправили в город Андижан, – говорит Альвина Адольфовна. – Оттуда их не отпускали даже после Победы.
Дядя Ваня возмущался: сколько можно, люди уже давно войну забыли, а мы все вдали. У нас семьи, а мы детей не знаем, как выглядят. Его жена тетя Катя была в положении, когда его забрали, и он не знает, какая у него растёт дочь. Девочка родилась в 42-м, а он пришел в 52-м. Представляете, ребенку десять лет. Она не знала, какой папа, а он не знал, какая дочь. У многих так было.
Несмотря на репрессии и притеснения, голендры сумели сохранить свою культуру, традиции, по большей части язык. Преодолеть все тяготы и лишения во многом помогала религия. На памятнике первопроходцам выбиты такие строки: «Надежное пристанище – наш Бог, надежная защита и оружие».
После военного лихолетья, вплоть до 1994 года, жители трех сел старались жить незаметно, а потом на них свалилась волна популярности: к пихтинцам потянулись туристы, в том числе из Германии, Польши. Но предшествовало всему этому огромное количество встреч, конференций, дискуссий с учеными, историками, этнографами, лингвистами, к которым Галина Макогон имеет самое непосредственное отношение. Сегодня краевед занимается другими, не менее интересными проектами, а история голендров перешла на очередной виток развития. В их традиционный жизненный уклад прочно вписалось новое направление – сельский туризм. Пихтинцы осваивают крупный федеральный грант, строят гостиницы, ждут гостей, которым есть что показать и рассказать.