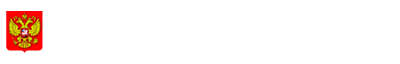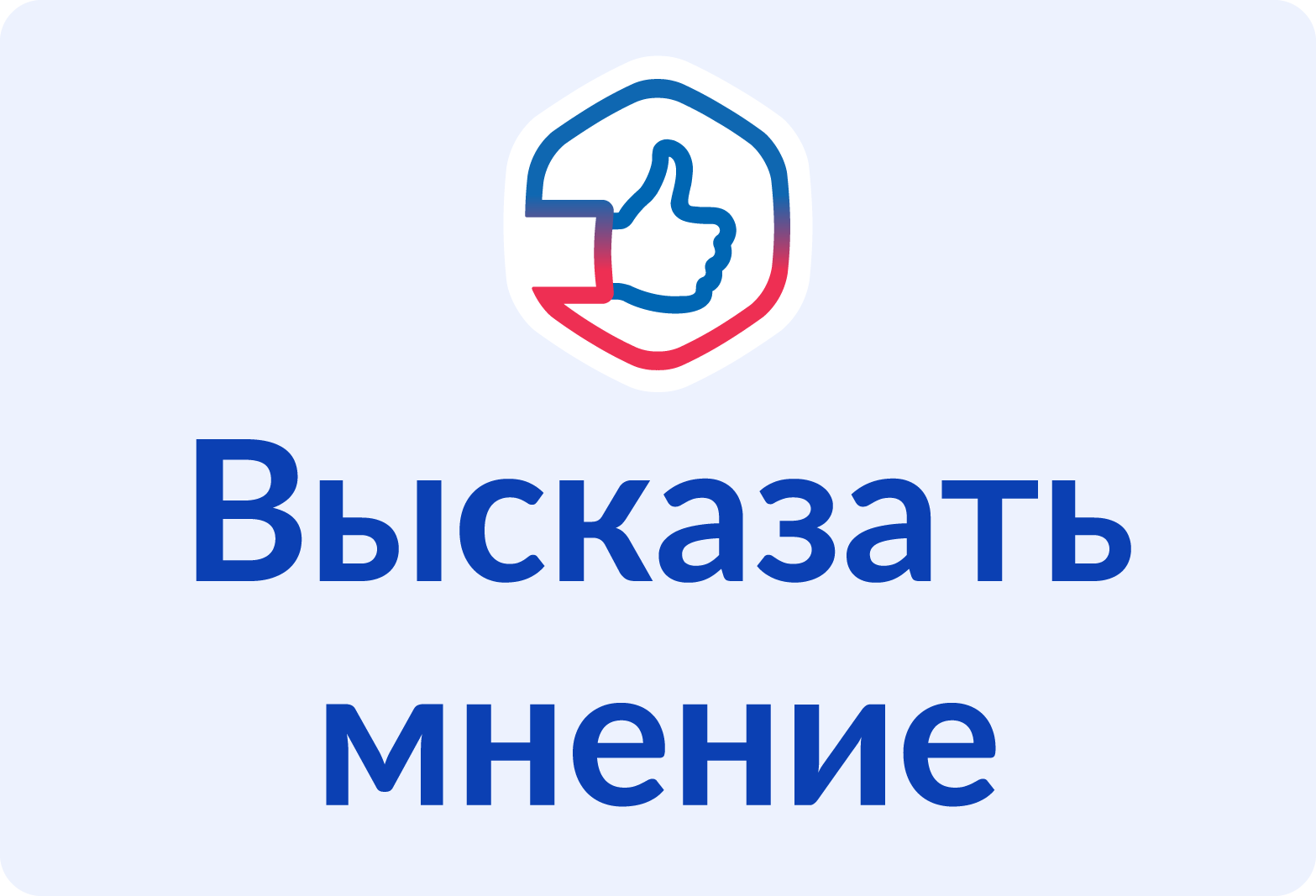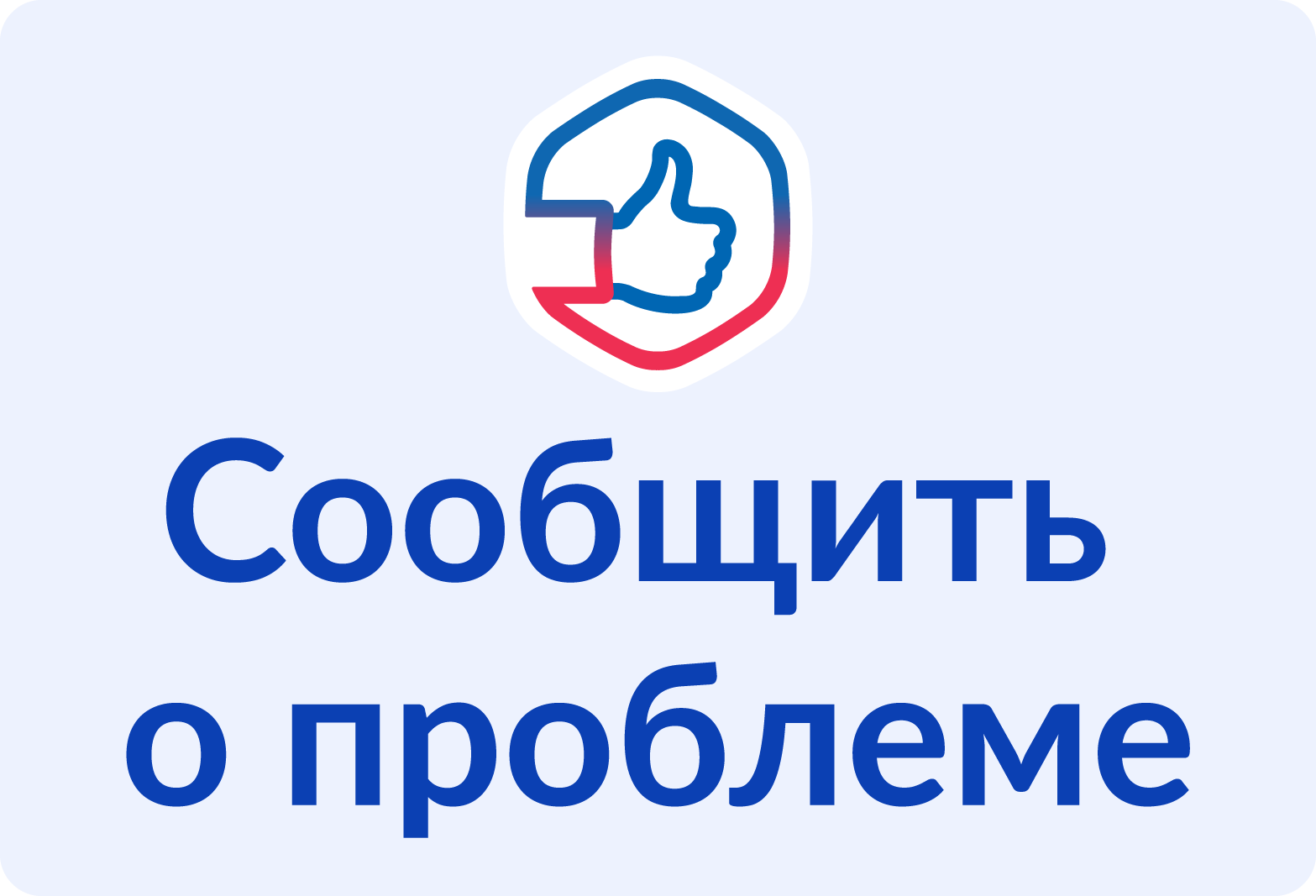Патриотизм – это любовь
В июне в Иркутске побывал Марат Баширов, профессор Высшей школы экономики. Политик, политтехнолог, эксперт, автор Telegram-канала «Политджойстик». Баширов прочел лекцию для слушателей общества «Знание» и рассказал читателям «Областной» о том, какое место в нашей жизни занимают новые медиа и как выстроить взаимодействие с социальными сетями.
– Марат Фаатович, сегодня сознание человека постоянно подвергается агрессивной информационной атаке. Нас то атакуют мошенники, то рассказывают, что вот-вот произойдет ужасная катастрофа. Как защититься от такой ментальной агрессии?
– Вы знаете, мало что изменилось с тех времен, когда не было социальных медиа и интернета. Социальные фобии были всегда. Элементы воздействия одного государства на другое были иные, и сорок лет назад было «Радио «Свобода». Борьба была всегда. За рубежом радиостанции создавали не для того, чтобы нам было хорошо, правда?
Сейчас эта борьба перешла в коммерческую сферу, в откровенный криминал, если мы говорим про телефонных мошенников. Беда в том, что я или вы подвох сразу распознаем, а вот бабушка – нет. Но и это не новость, люди старшего поколения всегда больше подвержены психологическому воздействию. Я помню, как в 1979 году, когда началась Китайско-Вьетнамская война, моя соседка – у нас был общий балкон – купила несколько мешков соли. Я ее спрашиваю: «Зачем?», а она отвечает: «Ты не понимаешь, соль исчезнет первой…»
–…а потом спички?
– И эта соль так и лежала несколько лет на балконе. Когда она умерла, ее родственники потом ломом эту соляную глыбу раскалывали и сбрасывали с балкона.
Защита граждан от таких манипуляций – это задача для государственных психологов. Нужно знать, что в голове у человека сидит, чего он боится, что ему врут и как собираются вредить. И если мы вспомнили времена «Радио «Свободы», то это был дилетантский уровень. Современные специалисты вначале вычисляют, куда нужно психологически «нажать», придумывают, как это сделать, ищут для этого эффективные каналы…
В эпоху социальных медиа нет абсолютного государственного контроля за распространением информации. Как бы мы ни блокировали сайты, как бы мы ни заставляли маркировать рекламу, нежелательная информация все равно будет доходить. И защита психологического состояния граждан должна быть частью текущей государственной работы. Тут мы, на мой взгляд, недорабатываем. У нас отличные школы психологов, есть социальные психологи, которые понимают, что такое массовое сознание, как оно формируется. Понятно примерно, как защищать население, как обучать людей противостоять этому.
Но важно пройти развилку: а можно ли использовать такие методы для защиты нашего государства, можем ли вести активное противодействие? Можно ли отвечать словом на слово: они врут, значит, и нам можно? Это важный вопрос, и он больше из области культуры, исторической традиции, он о том, как мы относимся к другим людям.
Вот наши оппоненты никогда не стесняются. У нас есть много примеров, да взять ту же СВО. Мы стараемся не бить ракетами по гражданским объектам, за исключением случаев, когда объект используется для военных целей. А они бьют, и всегда это делали. Еще когда я работал в Луганске в 2014 году, они разбрасывали мины ПФМ-1 «Лепесток» над жилыми кварталами – маленькие мины, похожие на такой «цветочек», которые калечили мирных граждан.
Так вот, психологическая война – это тот же кассетный боеприпас. Да, мы защищаемся, но вот вопрос: можно ли нам такими же методами, коллективными, психологическими, атаковать? Я не знаю.
– Раз уж мы использовали пример с радио, нельзя не отметить, что приемник можно было выключить – и наступала тишина. А теперь информационное пространство не заканчивается телевидением и радио. Нами могут манипулировать на тех площадках, где мы вообще не ждем: в социальной сети, в игре…
– Человек идет в соцсети в первую очередь, чтобы развлекаться. Эти площадки собирают огромное количество людей, и там очень легко манипулировать. И массовые игровые площадки тоже очень приятная среда для тех, кто хочет вести информационную войну. Ведь люди не просто играют, есть чаты, игровые сообщества, в которых игроки общаются. Угрозы возникают там, где человек не ждет. Значит, государственные чиновники должны понимать, что угроза – вот она. И государству нужно идти туда, в развлекательный сектор. И я не только силовиков имею в виду, должны быть созданы специальные какие-то организации для этого. Это важно еще отслеживать и на тех уровнях, которые занимаются культурой, например. Мало снимать хорошие патриотические фильмы, надо работать в области развлекательного интернет-контента.
– Кстати, о кино. Вам нравится современное российское патриотическое кино?
– Очень редко смотрю российское кино. Я не вижу в нынешних актерах того, что могло бы мне дать нечто, сравнимое с тем, что я видел в советское время. Хотя сейчас что-то стало меняться, я эти перемены вижу, и все же это единичные какие-то истории. А вот массовое кино и телесериалы, которые на сегодняшний день снимаются на государственные деньги, меня не устраивают.
– Что для вас означают понятия «патриотизм», «патриот»?
– У патриотизма много критериев, многое зависит от среды. Для предпринимателя, например, патриот тот, кто вкладывает средства в Россию. Но вот на человеческом уровне для меня патриотизм – это любовь к «своему». К месту, где ты живешь. К тому, как ты к этому месту относишься – вплоть до того, бросишь ты бумажку на тротуар или донесешь до урны. Критически оцениваешь власть или нет: ты должен критически оценивать власть, если ты патриот, это тоже часть патриотизма. Но при этом самое главное в патриотизме – это любовь. Любовь к месту, где твои предки жили, и где они похоронены, в конце концов.

Патриотизм – это всегда очень простые вещи, без высоких материй. Когда человек приезжает в Москву из Иркутска, его спрашивают: «Ты откуда?», и он говорит: «Из Иркутска». А когда человек приезжает в другую страну, он говорит: «Я из России». Вообще Россия стоит на трех китах, это многоязычие, многонациональность и уважение к религиозному мировоззрению. И мы знаем, что Россия – она вся наша, и все, что в ней есть, это наше. Нам чужого не надо, но и на наше покушаться мы не дадим.
– Казалось, недавно еще была общность «советский народ», и вдруг граждане соседнего государства совершенно искренне говорят о своем национальном превосходстве, о том, что «Россия страна рабов» и что историческая цель Украины – Европа. Как удалось переформатировать мозги всего за одно поколение?
– Давайте скажем честно: большинство-то украинцев как были людьми с общей постсоветской ментальностью, с общим культурным кодом, так и остались. Американцы поработали с молодежью. НКО, которые появились еще в начале двухтысячных, готовили эту платформу, формировали лидеров общественного мнения. Почему сейчас такая активная борьба с НКО в той же Грузии? Грузины поняли, что это один и тот же механизм, когда формируется небольшая группа, которая будет очень агрессивна и захватит власть.
Когда украинцы голосовали за Зеленского, это ведь было голосование надежды. Кто ж знал, что парень-то уже в кармане сидит у американцев? Он говорил: «Я закончу это противостояние», он говорил, что сохранит русский язык, что не будет притеснять церковь, снизит тарифы и разберется с олигархами. Ну да, и Европа. А что получилось? И это не первая такая история, и не последняя. Американцы научились это делать, и такая же история сейчас происходит в Армении, и Пашинян в том же американском кармане, рядом с Зеленским, плечом к плечу.
Раз это американцам удалось, значит, есть надежда, что удастся и нам. Если поменяется режим, мы будем восстанавливать отношения. Вот я свято уверен, что большинство населения Украины перекрестится, перестанет бояться, и известная фраза, что мы братские народы, снова будет звучать. Да, для этого потребуется время, потому что с обеих сторон много погибших и раненых. Да, нас стравили и заставили стрелять друг в друга. Но нельзя сказать, что это необратимо, и эти качели еще пойдут обратно.
– Какой совет можно дать людям, которые проводят много времени в социальных сетях?
– Совет, который я всегда даю тем людям, которые хотят научиться работать в соцсети, – важно понять, что у человека есть некая «информационная корзина». Вот мы за день можем съесть определенное количество еды, которое составляет нашу продовольственную корзину. Можем и больше, но будут проблемы со здоровьем, с пищеварением, поэтому мы едим не каждый час, а два-три, ну может быть, четыре раза в день. Точно также нужно дозировать употребление информации, не нужно стремиться получить больше, чем необходимо для жизни. И очень важно для тех людей, которые работают с информацией. Если ты хочешь попасть в эту информационную корзину, то будь полезен своему читателю.