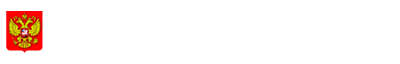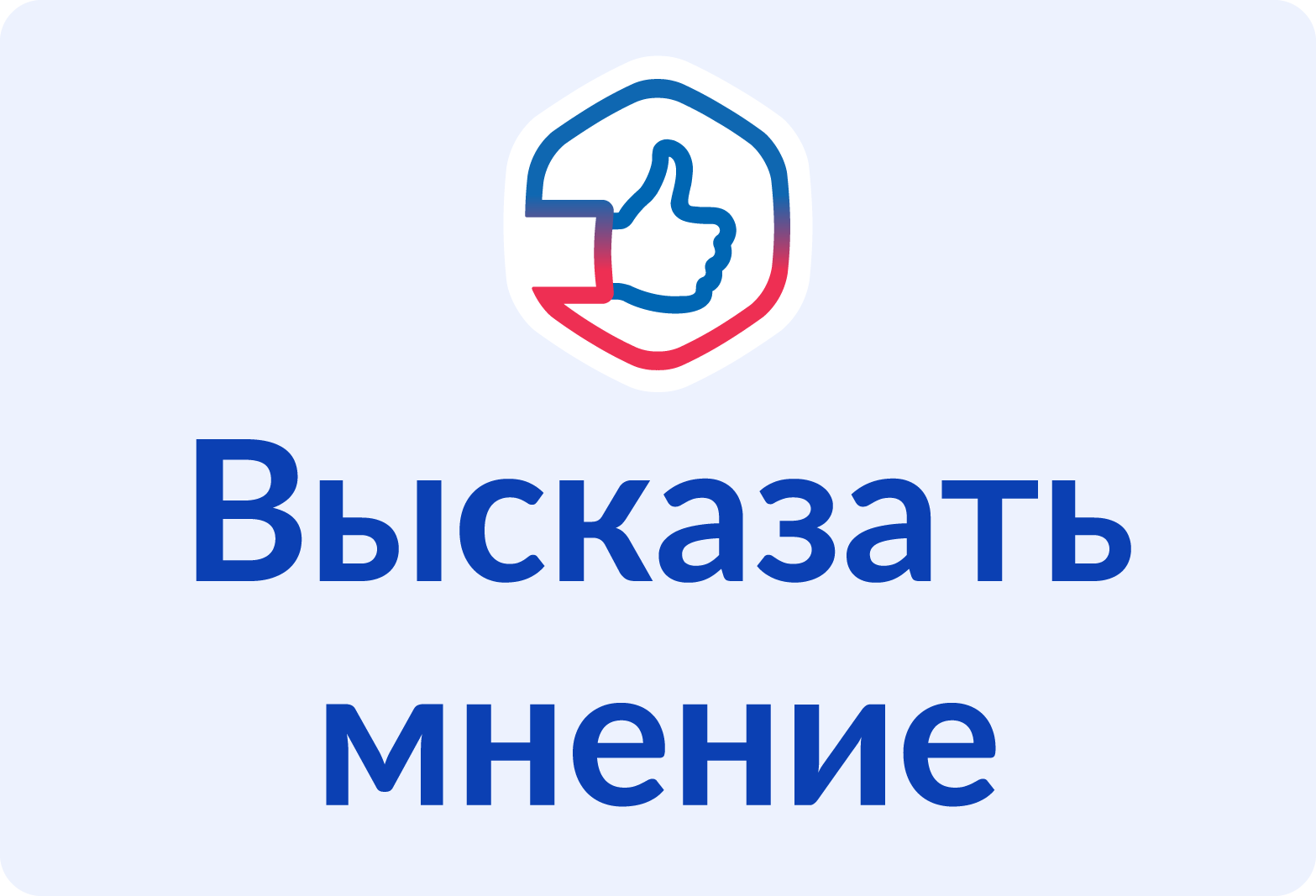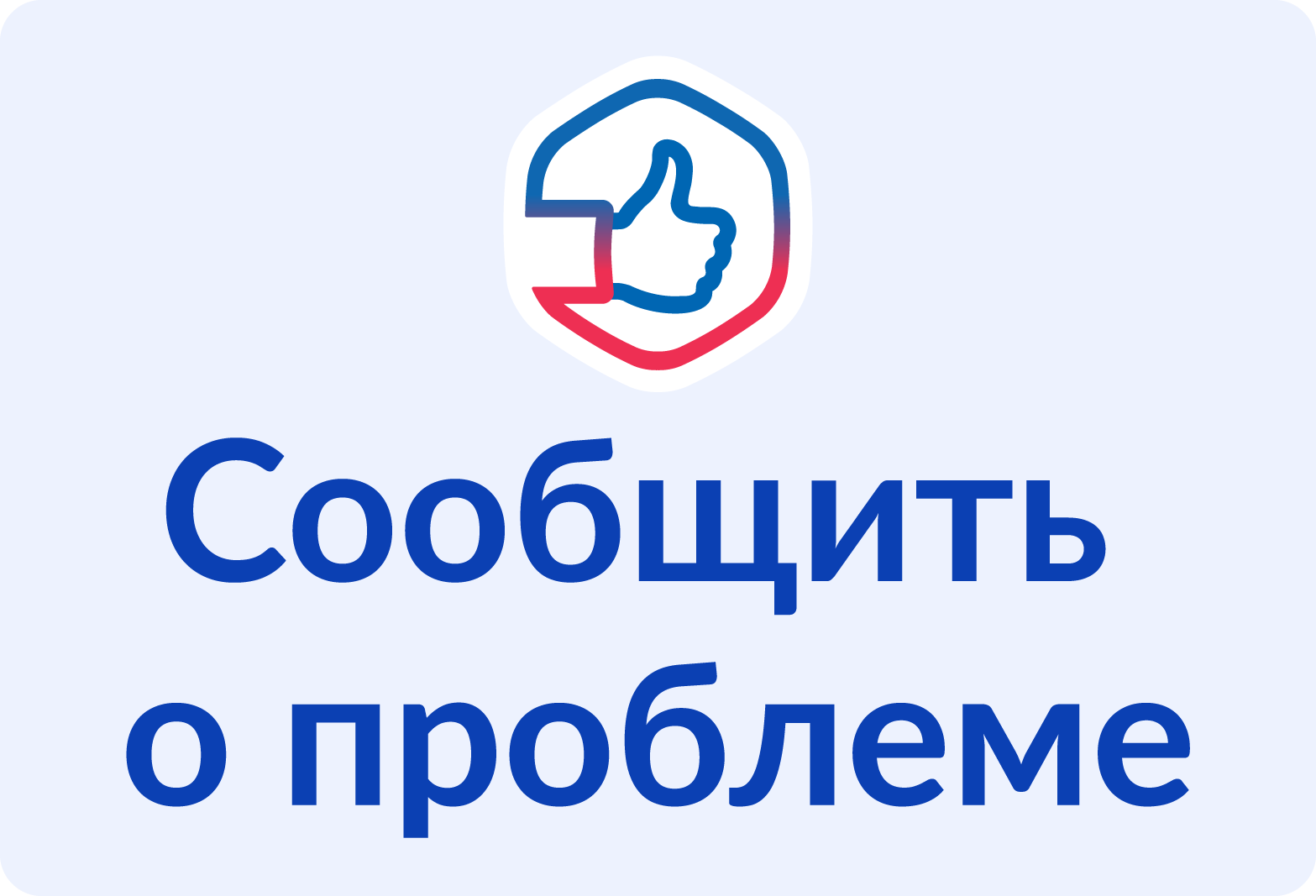Шел солдат
Как снимался сюжет о жизни Семена Батагаева
В 1984 году в сборнике киножурнала «Восточная Сибирь» вышел сюжет «Шел солдат», главным героем которого стал полный кавалер ордена Славы, житель поселка Онгурены Ольхонского района Семен Батагаев. Документальная лента – одна из немногих историй о непарадной стороне жизни прославленного ветерана. О том, как снимали сюжет – в интервью с кинооператором-документалистом, лауреатом Государственной премии РФ Евгением Корзуном.
Белобородов и Батагаев
– Евгений Алексеевич, вам посчастливилось быть знакомым с легендарными участниками Великой Отечественной войны – дважды героем Советского Союза Афанасием Павлантьевичем Белобородовым и полным кавалером орденов Славы Семеном Ивановичем Батагаевым. Более того, обоих земляков вы сняли на кинопленку – самое ценное свидетельство на сегодня. С кем из них вы познакомились раньше?
– Осенью 1982 года наша съемочная группа полетела в Москву, чтобы снять фильм про Афанасия Павлантьевича. Сама идея у меня появилась раньше, но мою инициативу не поддержали, а вот режиссеру Михаилу Шмулевичу удалось продавить проект. Более того, Миша пошел на хитрость, взяв заказ на съемку производственных короткометражек про работу подмосковных железнодорожных станций. Подобные сюжеты между собой мы называли «болты в томате». Эти сюжеты мы сняли быстро, а дополнительное время потратили на работу с Белобородовым. А через два года я полетел в Онгурены к Семену Батагаеву.

– Именно полетели?
– Да, тогда туда регулярно летали самолеты Ан-2. В советское время аэропорт был практически в каждом райцентре, билеты стоили недорого, никого это не удивляло. В Онгурены и сегодня сложно добраться, а тогда тем более, не зря с бурятского это название переводится как «конец дороги». В качестве аэровокзала стоял обыкновенный дом, обмазанный глиной, чтобы не продували байкальские ветра. Смотрелось все это достаточно экзотично, я даже сфотографировался на память, сидя на кофрах с аппаратурой.
– Что вас зацепило в истории с Батагаевым, почему решили снять про него сюжет?
– Полных кавалеров орденов Славы гораздо меньше, чем Героев Советского Союза, и один из них жил у нас, в отдаленном селе на берегу Байкала. Хотелось рассказать, как живет легендарный ветеран, показать его не с парадной стороны, без всякого пафоса.

– А Семен Иванович знал, что приедут про него кино снимать?
– Да, его предупредили, и это сразу затормозило процесс.
– Каким образом?
– Семен Иванович решил, если приедут снимать кино, надо одеться подобающе. Меня он встретил в парадном костюме со всеми орденами, принялся в этом наряде во дворе разжигать самовар. Все это никак не вязалось с моей задумкой – снять домашнюю жизнь героя войны без пафоса. Какое-то время не знал, что делать. Попросить, чтобы снял пиджак с наградами, а вдруг обидится… Сделал несколько планов, отложив съемки на следующий день. Герой должен привыкнуть к камере, не замечать ее, тогда в кадре будет выглядеть органично. Чтобы разрядить обстановку, я предложил сходить на рыбалку, Семен Иванович согласился.
– Сцен рыбалки в сюжете нет совсем, она не удалась или кадры вырезали при монтаже?
– Рыбалка не совсем сложилась, то ли с погодой нам не повезло, то ли место неудачное выбрали, но я все равно снял Семена Ивановича на берегу Байкала. А вырезали при монтаже, там вообще много сцен не вошло, хронометраж у сюжета небольшой. Жалко, что «лишние» кадры не сохранились, сегодня это был бы бесценный материал.

– В сюжете Семен Иванович поправляет прясло, гонит отару овец, то есть выполняет самую простую работу – так и было задумано?
– Да, и Семен Иванович органично смотрится в привычной обстановке. В пиджаке со всеми наградами он рассказывал о подвигах, в том числе о том, как брал языка в Кенигсберге. Интересно, что Семен Иванович параллельно с Афанасием Павлантьевичем штурмовал Кенигсберг, находясь в составе соседней 5-й армии, которой командовал Иван Черняховский. Мне сложно было в щупленьком мужичке с ботожком в руках представить человека, отважившегося ночью в Кенигсберге пойти за «языком»! Слушая, я на мгновение представил себя на его месте, мне стало не по себе.
Что осталось за кадром?
– В сюжете он рассказывает лишь об одном эпизоде, что осталось за кадром?
– Тогда ведь звук писали отдельно и синхронизировать его с пленкой было сложнейшей задачей. Во время монтажа такую «лапшу» нарезали, чтобы артикуляция совпадала. А рассказывал он много и всегда начинал неожиданно. Сидит, курит, о чем-то думает, а потом начинает негромко говорить. Один раз вспоминал, как брали деревню Чернушки, ту самую, где совершил свой подвиг Александр Матросов. Его воспоминания неожиданно перебила жена Ульяна, которая громко вдруг стала что-то на бурятском выговаривать дочери. Семен Иванович замолчал, жена не останавливается. Потом как крикнет: «Помолчи ты, п….ь и п….ь все время!». И дальше что-то на родном языке добавил. Я оторопел от этой сцены. Семен Иванович посмотрел на меня: «Забыл, че говорил-то…». О боевых эпизодах он рассказывал настолько буднично, как о тяжелой, но нужной работе. Вот, например, про ранение.

«Везут в госпиталь, кровь бежит по телу, уже в сапоги набралась, слабость одолела страшная, в глазах уже мухи летают. Через день на соседней кровати от ран скончался однополчанин, и кто-то сказал, что неправильную кровь ему влили, а я лежу и думаю: «А где они бурятскую кровь возьмут? А если цыганскую вольют, коней еще возьмусь воровать… На войне так и было: сейчас разговариваешь с другом, а завтра его хоронишь».
– Вы долго жили в Онгуренах?
– Дней пять, не меньше. С Семеном Ивановичем ходили жарить шашлык, долго общались. Мне кажется, что Батагаев не осознавал, что является самым настоящим героем. В 1945 году 5-я армия, в которой он служил, была переброшена на Восток, усилив 2-й Дальневосточный фронт. Во время штурма Харбина Батагаев, к тому времени полный кавалер ордена Славы, получил тяжелое ранение и полгода находился в госпитале. В Онгурены вернулся уже в 1946 году.
– А после съемок вы встречались?
– Да, он ведь несколько лет жил в Иркутске, и во время праздников мы общались уже как старые друзья.
Не упустить самого человека
– Будь у вас еще одна возможность снять документальную ленту, о чем бы спросили Семена Ивановича?
– Знаете, я много думал об этом. И появись такая возможность, я все снял бы по-другому. Обязательно спросил бы, кто провожал его на фронт, что он сам чувствовал в этот момент. Надеялся ли, что вернется? В конце концов интересно, были ли ситуации, когда просто дрейфил на фронте?
Я все время вспоминаю Афанасия Павлантьевича, он рассказывал, как они окапывались на очередном рубеже в Подмосковье, подошел дедушка и, глядя в глаза: «Вы долго еще пятиться будете? Москва-то вот она!». Как такой упрек пережить комдиву? И однажды сам ответил, о чем постоянно думает: «Лягешь» (так и сказал) и думаешь: сколько же людей погибло под твоим руководством!? Вот думал бы лучше, может быть, меньше бы погибло».
За всем этим пафосом, праздничными речами, героическим ореолом мы зачастую упускали главное – самого человека.

Из воспоминаний Семена Батагаева:
«Была ночь. Половина Кенигсберга за немцами, половина наша. Пошли за языком. Я молодой был, приемы борьбы знал, поэтому и в разведку отправлять стали. Крадемся в полной темноте в сторону немецких позиций, можно сказать, на ощупь. Они тоже группу выслали, вот мы и встретились. Немец навалился на меня как медведь, хотел задавить весом своим. Тут и пригодилась борьба. Бросил его, ребята подоспели, помогли скрутить фрица и кляп в рот засунули. Мы его на плащ-палатку и – к своим. Потом узнали, что наши от того языка ценные сведения получили».