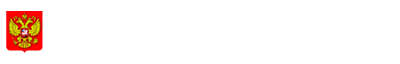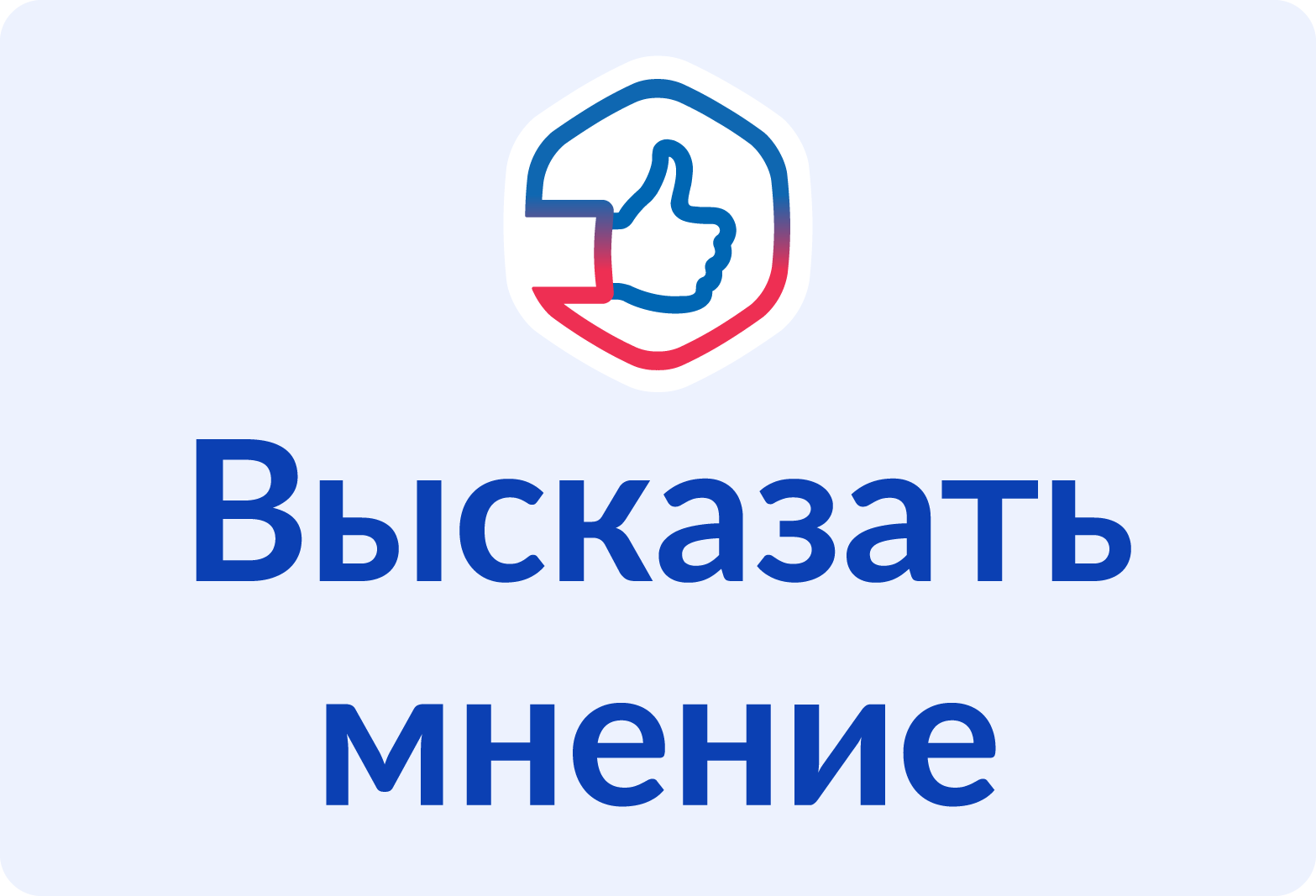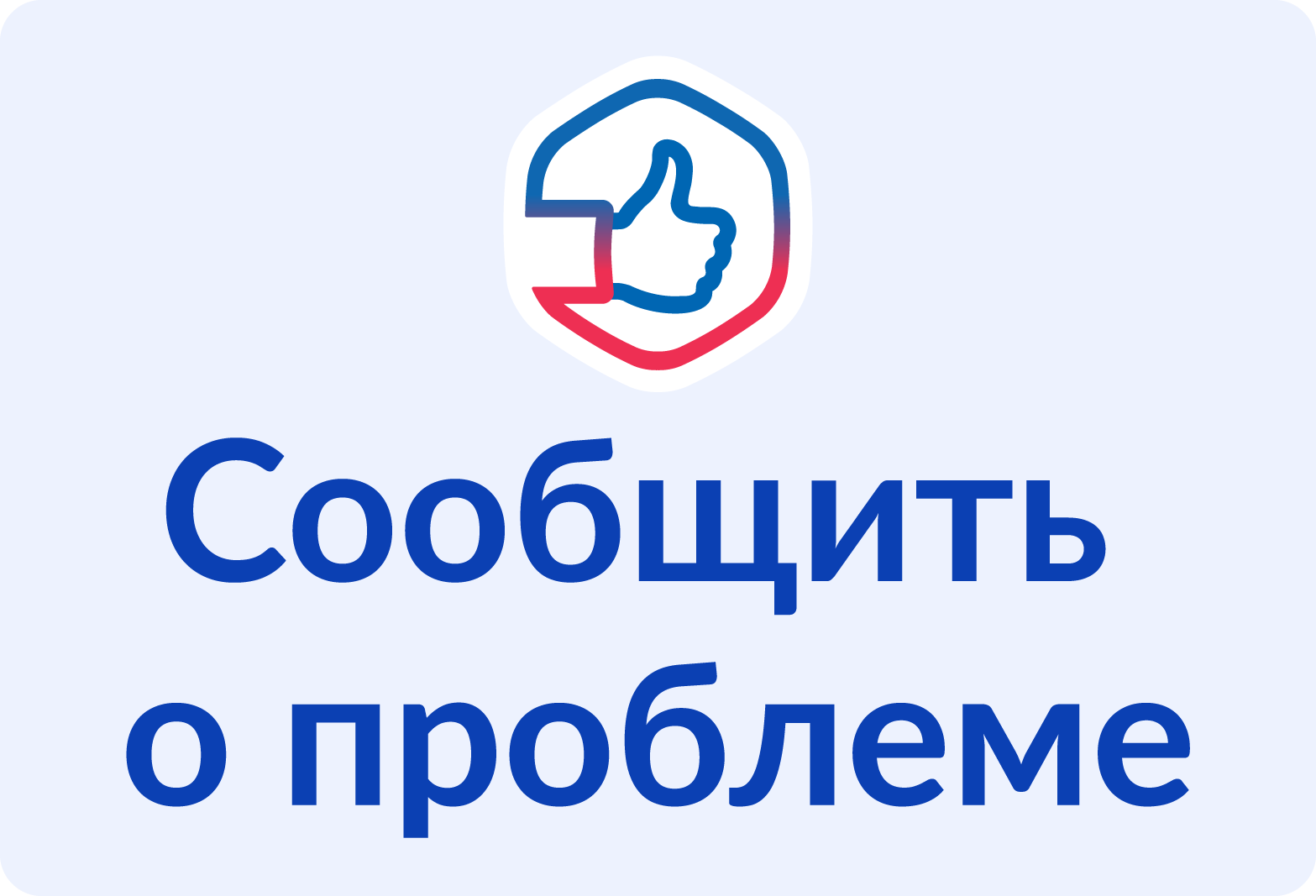Способ воспринимать мир Евгении Скаредневой
Начало этого года ознаменовано интересным литературным дебютом – у нашей коллеги, редактора газеты «Аргументы и Факты в Восточной Сибири» Евгении Скаредневой вышел из печати первый сборник стихов. Правда, Евгению трудно называть дебютантом – ее стихотворения знакомы любителям поэзии, она нередко вступает на поэтических вечерах, с ее творчеством можно познакомиться в социальных сетях. И все же первый сборник, изданный при поддержке министерства культуры РФ, – безусловно событие.
– Евгения, вас можно поздравить – вы уходите из журналистики в поэты?
– Конечно нет. Трудно представить себе, что такое «профессиональный поэт». На что существуют эти люди? Да, есть поэты-песенники, которые получают гонорар от исполнителей, их произведения звучат в радиоэфире и приносят какие-то деньги. Или вот «датская поэзия», когда люди по заказу сочиняют стихотворения к какому-нибудь юбилею. Но это не мой случай точно.
Лично для меня это способ воспринимать окружающий мир и высказываться о нем. И это происходит спонтанно. Ты едешь в машине или летишь на самолете, видишь какой-то образ, и в голове что-то щелкает. Достаешь телефон и записываешь строчку, а она потом подтягивает к себе следующую. Бывает, эту строчку откладываешь на время. На день, не несколько недель, месяцев или даже на несколько лет. И очень редко бывает, – но все же бывает! – когда стихотворение вылетает целиком, как будто кто-то надиктовал.
– Образы в стихотворениях автобиографичны, или это все-таки лирическая героиня, которая живет своей жизнью, – и это не всегда Евгения Скареднева?
– На факультете журналистики, где я училась, и где, кстати, сейчас преподаю, говорят: «Никогда, слышите, никогда не отождествляйте автора и лирического героя». Конечно, это какое-то мое личное переживание, переосмысление ситуаций, мыслей и образов, но это всего лишь отправная точка. Ты видишь образ, а потом он начинает жить своей жизнью.
– Многие пытаются писать стихи в подростковом возрасте, проживая в поэзии переживания пубертатного периода. Было дело?
– Было. Но это очень грустная история. Я с детства что-то пыталась рифмовать и даже записывать, но, к счастью, результаты этих экспериментов не сохранились. А вот когда училась в классе, может быть, пятом, тетрадку исписала стихами, и моей бабушке показалось, что все – поэт родился, и о внучке должен узнать весь мир. Из лучших побуждений она отнесла эту тетрадочку ни куда-нибудь, а сразу в Иркутский дом литераторов. Она попала в руки к «профессионалу», и взрослый человек, более того, немолодой такой дяденька, понимая, что ему принесли стихотворения одиннадцатилетнего ребенка, радостно разобрал эти «произведения» по косточкам. Разгромил, как бог черепаху, да еще и написал об этом заметку в настоящем литературном журнале, мол, как много нынче поэтов-графоманов. Сейчас, обладая некоторым собственным и редакторским, и педагогическим опытом, я в таких выражениях даже сочинения студентов не разбираю, поскольку понимаю, что это может нанести молодым людям психологическую травму. Представляете, как тогда мне было страшно, обидно, грустно и больно. И я долгое время не писала ничего вообще.
– Кстати, а журналистский и редакторский опыт в творчестве помогает или мешает?
– По первому высшему образованию я журналист, поэтому нас не учили стихосложению. Зато в студенчестве были многостраничные списки литературы для чтения. Зарубежная литература, отечественная… Нужно было много читать. Начитанность дает привычку к слову, ты начинаешь понимать, как пользоваться языком для выражения каких-то сложных чувств и эмоций, а не просто, как говорят, «для бытового общения».
– И все же… как там в Евгении Онегине… «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить».
– О да, это я! Вообще говоря, сложно представить себе поэта, который говорит себе: «Вот, я сейчас что-то амфибрахием напишу!». Хотя, чтобы вписать строчку в определенный размер, приходится считать слоги, подыскивать нужное слово. Но это происходит интуитивно, как-то проговаривается в голове, и чтобы стихотворение зазвучало, нужен ритмический рисунок.
– Давайте вернемся немного назад. Для человека, первые стихотворные опыты которого закончились полным отказом от стихосложения, выход собственного сборника стихов выглядит несколько неожиданно…
– Однажды, а именно – почти десять лет назад, в 2016 году, я была в командировке в Тюмени и по дороге в аэропорт я достала блокнот и записала несколько строчек, которые взялись как будто бы из ниоткуда. Получившееся стихотворение опубликовала в социальной сети, просто как своего рода заметку на полях. Затем еще, и еще… и поняла, что ко мне вернулись стихи.
Неожиданно получила теплые отклики, сначала от друзей и коллег, а потом и от совсем незнакомых людей. Меня стали приглашать на какие-то поэтические встречи, где люди читали свои стихи. А потом меня начали спрашивать: «А можно это прочитать на бумаге? Когда будет книга?» Долгое время мне это казалось несовместимым, ну в самом деле, где я и где книга. Наверное, точкой невозврата стал момент, когда ко мне подошла подписчица Telegram-канала и сказала: «Мы устали ждать, когда появится печатная книга, поэтому я распечатала ваши стихи и переплела их». И показывает мне очень симпатичную такую книжечку. Это было очень трогательно, а еще стало понятно – пора попробовать что-то издать.
Как водится, тут я бы хотела поблагодарить многих людей. Это моя хорошая знакомая, поэт Екатерина Боярских, которая предложила свою помощь, помогла подобрать стихотворения и взяла на себя обязанности редактора. Это художник Алина Свердлова-Александрова, которая смогла здорово «поймать» настроение произведений. Нужно поблагодарить и министерство культуры РФ, которое оказывает поддержку молодым авторам, и региональную организацию Союза российских писателей, которые в меня поверили и дали мне рекомендацию для участия в конкурсе на получение такой субсидии. Конечно, кроме господдержки были мои собственные средства – и за это спасибо моей семье.
– Книжка называется CMYK – эта аббревиатура знакома тем, кто занимается полиграфией, а для остальных, я думаю, является загадкой. Поясните?
– Это четыре буквы латинского алфавита, которые обозначают голубой, пурпурный и желтый цвета (cyan, magenta, yellow) и черный, иначе «контурный цвет». Такая схема, ее еще называют четырехцветная автотипия, используется для печати цветных изображений. Это своего рода магия: вся многокрасочная палитра нашего мира передается четырьмя основными простыми цветами: «Тот, кто готовит этот мир к печати, сегодня зазевался и выкрутил «циан» на самый максимум»… Поэтому мы, когда готовили книгу, попытались «разделить» стихотворения не по темам или временам года, а по цвету и связанному с ним настроению.
– А key color, черный – это такой депрессивный цвет, он тоже есть в книге?
– В книгопечатании «черный» сам по себе не депрессивный. Попробуй без черной краски что-нибудь напечатать – не получится! Это контур, граница, способ разграничить переживания, эмоции или, например, чтобы на синем фоне нарисовать веточки деревьев. Без черного тоже в нашей жизни никуда не деться.